Чтобы возможно короче подойти к топографии «проклятого города» времен пребывания в нем великого русского поэта (с 20 сентября 1821-го года по 25 мая 1823-го года), считаем нужным прежде всего опубликовать весьма характерный во многих отношениях «Проэкт разделения города Кишинева на пять частей», относящийся к 1823-му году и найденный нами среди старых дел архива Канцелярии Губернатора. Проэкт этот был представлен областным архитектором Озмидовым бессарабскому гражданскому губернатору Константину Антоновичу Катакази 25 июня 1823 года, ровно месяц спустя по отезде А. С. Пушкина из Кишинева в Одессу.
Озимидов, уроженец Екатеринославской губ., еще в 1811-м году был вызван в Яссы председательствовавшим тогда в диванах квяжеств Молдавии и Валахии сѳнатором Кушниковым, для устройства селитроварен в Лопушне и Оргееве и снабжения селитрою Каменец-подольского «артиллерийского парка» (порохового взвода). По присоединении Бѳссарабии к Роосии зоркий глаз митрополита Гавриила наметил Оэмидова в работники по устройству новой Области.
Приурочивая отъезд Пушкина из Кишинева в Одессу к 25— 26 мая 1823 года, мы руководствуемся увазанием, сделанным самим поэтом в письме к брату от 25 августа того же года из Одессы. Для нас бессарабцев весьма интересно это письмо. Оно свистел ьствует о том, что за три года жизни в Кишпневе поэт успел создать из лучших элементов общества «проклятого города» не безразличную для сердца среду. Он писал: ,,Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело. Здоровье мое давно требовало морских ванн; я на силу уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу. Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторации и итальянская опера напоминали мне старину и, ей Богу, обновили мне душу. Между тем приезжает (из заграничной поездки) Воронцов, принимает меня ласково; объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе. Кажется и хорошо, да новая печаль мне сжала грудь; мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехав в Кишинев на несколько дней, провёл их неизъяснимо элегически, и выехав оттуда навсегда, о Кишиневе я вздохнул». Правда, последнее выражение письма, по верному сопоставлению П. Бартенева, напоминает заключительные стихи Шильонскаго Узника:
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул,
Я о тюрьме своей вздохнул.
Но эти «несколько дней, неизъяснимо элегически проведенных» поэтом в Кишиневе, при последнем расставаньи с ним, а затем тот факт, что в Кишиневе задуманы и начаты поэтом лучшие его произведена, — все это вместе неотразимо убеждает нас, что Кишинев в некотором смысле сослужил для Пушкина роль «волшебной СКАЛЫ сладостного уединения и самопознавания», говоря языком масонов.
В 1820-м году (после 20го сентября—дня приезда в Кишинёв) Пушкиным написаны стихотворѳния: , Виноград», «Черная шаль» и «Дочери Карагеоргия»; в 1821-м году—кроме большой поэмы „Кавказский Пленник»—тридцать одно стихотворение: Земля и море» (Киев 8 февраля), ,,Жѳлание,, , „Муза», (14 февраля —5 апреля), «Я пережил свои желанья» (Каменка, 22 февраля), Дельвигу» (Друг Дельвиг, мой парнасский брат…Кишинев, 23 марта), „Катенину» (Кто мне пришлёт её портрѳт… 5 априля), .,Наперсница волшебной старины» (Муза), „Сетование» (Д. В. Давыдову), „Чадаеву» (Кишинев, б— 20 апрлля), „П—лю», „К Чернилице» (11 апреля), „Еврейке» (Христос воокрес моя Ревекка… 12 апреля, Кишиневе), „Кинжал», „Недвнжный страж дремал», „Наполеон» (июнь), „Десятая заповедь», „Умолкну скоро я» (23 авиуста), „Мой друг, забыты мной следы минувших лет» (24—25 ааиуста), „Гроб юноши», ,,К Аглае» (И вы поверить мне могли), «Иной имел мою Аглаю», «Война» или «Мечта воина» (29 ноября), «ОВИДИЮ» (26 декабря), «Алексееву» (Мой милый, как не справедливы…), „К портрету кн. Вяземского», „Приметы», «Дева» (Я говорил тебе, страшися девы милой), „Подруга милая, я знаю отчего Дионея», „Красавице перед зеркалом» и „Эпиграмма на Каченовского» (Клеветник без дарованья); в 1822-м году—кроме поэмы „Бахчисарайский Фонган»—написаны: начало „Вадима» (Два Путника и Сон) и «Разбойники», «Баратынскому из Бессарабии», «Мальчик солнце встретить должно» (Тульчин, 1822), «Гречанке» (Ты рожден воспламенять вображѳниѳ поэтов), «К друзьям», «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Уединение», «Песнь о вещем Олеге», «Элегия» (УВЫ! зачем она блистает), «Послание к Ф. Н. Глинке», «Горишь ли ты, лампада наша?», „Адели», «Приятелю» (Не притворяйся, МИЛЫЙ друг), «У Клариссы денег мало», «Нет ни в чем вам благодати» и набросана поэма «Цыгане», поэзия которой, «как самые роскошные душистые цввты, почти что отуманивает голову» (Бартенев); наконец в начале 1823 года задуман и начат „Евгений Онегин».
Таким образом, предстоящие 24 го, 25-го и 26-го мая сего года, пушкинские празднества для нас кишиневцев будут вдвойне, даже втройне знаменательны. Во—первых, это будут празднества граждан « проклятого города» в честь поэта, в творчестве которого Кишинев фигурирует с столь резким эпитетом. Во—вторых, дни этих празднеств составит как раз семьдесят шестую годовщину ,,неизъяснимо элегически проведенных» поэтом в Кишиневе дней, при последнем расставаньи с ним. И в— третьих, наконец, 26-ое мая сего года составит кав раз четырнадцатую годовщину дня постановки памятника незабвевному поэту в кишиневском городском саду, где, „Лирой северной пустыни оглашая, Скитался» он.
Касательно самого «Проэкта разделения города Кишинева на пять частей» прежде всего нужно сказать, что самый худший его недостаток был по тому времени совершенно неизбежен — разумеем отсутствие в «Проэкте» назвавий улиц (кроме Московской — ныне Александровской и Большой — ныне Павловской), увы, тогда еще находившихся в положенин незаконорождѳнных детей и подкидышей, в роде «без вины виноватого» Незнамова, так ожесточенно изображаемого даже на наших захудалых провинциальных сценах заезжиии г.г. Киенскими и им подобными артистами. Другой недостаток ,,Проэкта», как страницы по топографии старого Кишинева, состоит в сравнительной скудости данных касательно некоторых интересных деталей тогдашнего внешнего благоустройства столицы Бессарабии. Так, в «Проэкте» сравнительно очень мало указаний о верхнем городе, т. е. той части его, которая простирается к западу от нынешней Николаевской (бывшей Каушанской) улицы. Впрочем этот недостаток «Проекта» несколько поправим, в виду имеющихся в «3аписках» Ф. Ф. Вигеля, «Воспоминаниях» И. П. Липрапди и „Воспоминаниях о Бессарабии» А. Ф. Вельтмана более подробных указаний о постройках, существовавших в верхнем городе. Главнейшие из этих указаний мы поместим в особых «Примечаниях» к издаваемому нами «Плану старого Кишинева времен жизни в нем А. С. Пушкина». Здесь же спешим объяснять, что все пункты, указываемые в „Проэкте», нами нанесены под соответствующими цифрами на «Плане»
«Для разделения города Кишинева на пять частей, по соображению моему с местным положением и народонаселением, мнением полагаю разграничить части города по нижеследующему: Первую часть, начиная от моста у Хотинской заставы (7), по большой улице мимо дома Михалакия Кацики (2) и дома занимаемого гоутбвахтою (3), далее по той же улице мимо дома помещика Томы Панпкопула (4), до угла улицы идущей мимо дома Киркора Тютюнжия (5); от оного угла в право до переулка, что против дома Хаджи Петки (6), потом оным переулком с поворотом в право мимо бывшего дома Аптекаря Ертеля (7) до Ильинской церкви (8), от толь в лево до улицы идущей между домами титулярного советника Крупенского (9) и Штабс-Капитанши Другановой (10), от дома же г-жи Другановой до строющегося дома коллежского ассесора Варфоломея (11), что против публичного сада (12), потом Московскою улицею мимо Гошпиталя (13) до Боюканского ручья, а потом берегом речки Быка (/4), до начального пункта у большего моста чрез реку Бык.
Вторую часть, начиная от того же моста, и по тому же границы направлению, до улицы разделяющей домы г. Крупенского и г-жи Другановой, занимая дом коллежского ассесора Замфиракия Рале (15), мимо дома Макара Волкова (16), против коего поворачиваясь налево в переулов мимо дома купца Чаплыгина (17), а далее мимо домов градской думы (18) и купца Неверова (19) по прямому в низ направлению до главного городского фонтана (20), что близ берега речки Быка, потом берегом оной речки, до начального сей части пункта у большого моста чрез речку Бык.
Третью часть, от помянутого фонтана по тому же как описано и во второй части границы направлению, до дома Макара Волкова, занимая домы Тараса Шароварова (21) и вице-консула Лукашевича (22), поворачиваясь в лево и продолжаясь по Московской улице, занимая торговые лавки (23) и мимо оных поворачиваясь в лево по улице мимо домов Сусоя Шароварова (24), а потом между домами губернского секретаря Коткова (25) и Панаита Кирияка (26); далее в низ мимо дома занимаемого прежде почтовою конторою (27) до переулка, что против дома Константина Журжия (28); потом по прямому в низ по улицам направлению, между домами Жени Стояна (2.9) и Настаса Минержива (30), до окончания тех улиц между домами Нени Филипповой (31) и Неши Копристына (32), близ колодца находящегося возле садов (33); от оного колодца поворачиваясь в лево мимо тех садов до плотины (34), где находится и мельница (35), а от толь по берегу речки Быка, до начального сей части пункта у главного городского фонтана.
Четвертую часть, по сему-ж границы от третьей части направлению, до Московской улицы мимо торговых лавок, от толь поворачиваясь по оной улице в лево между домами г. Статского Советника Крупенского (36) и Ахмета Ефендия (37) до конца той улицы, с поворотом в лево до дороги идущей из города в селение Мунчешты, принимая оная часть во внутренность свою по левую сторону дороги все лежащие домы и огороды до городской границы, от коей поворачиваясь по берегу речки Быка до вышеописанной в третьей части мельницы и плотины.
Пятую часть, отделяя описанною дорогою, идущею в селение Мунчешты, и Московскою улицею идущею между домами г. Статского Советника Крупенского и Ахмета Эфендия, продолжаясь мимо домов Армянского Архиепископа Григория (38), Коллежского Советника Дическулова (39), Митрополии (40), Публичного сада, Действительного Статского Советника Варлама (41) и Гошпиталя до Боюканского ручья, поворачиваясь оттоль в лево, занимает во ввутревность свою домы по прожектированному плану выстроенные и имеющие быть в тех местех в предыдущее время выстроенными, так же кладбища християн Греческого (42), Армянского (43), Католического (44) и Лютеранского (45) исповеданий, а равно хутора, сады и огороды, состоящие по урочищам, называемым Большая (лит. А) и Малая (лит. Б) Малины».
Дальнейшею последовательной нумерацией на Плане мы отметили все важнейшие пункты города времён жизни в нем Пушкина и в частности все дома, в которые, по достоверным письменным свидетельствам современников, поэт был вхож. Обяснения к цифрам и прочим знакам на «Плане» и составят
Красными кривыми линиями отмечены на Плане кварталы старого города, ко времени Пушкина сохранившие еще все свои причудливые формы. Поверх них нанесены черными линиями прожектированные в 1818-м году полномочным Наместником Бессарабской Области Бахметевым, прямолинейные кварталы. Но проэкт Бахметева имел значение лишь для ввовь заселявшегося верхнего города — начиная от нынешней Николаевской (бывшей Каушанской) улицы к западу. Старый же город не изменил своего вида вплоть до 1834 года, когда за его судьбу взялась деятельная руа необыкновенно энергичного губернатора генерала Павла Ивановича Федорова, расширившего план города до его нынешних границ и представившего свой план на ВЫСОЧАЙШЕЕ утверждение; вновь прожектированные Федоровым, незастроенные кварталы нового города отмечены на нашем плане крупным пунктиром.
Мы рассматривали множество старых планов г. Кишиневе и в том числе — копию с федоровского «ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного Плана областного города Кишинева», исполненную в Бессарабской Областной Строительной и Дорожной Коммиссии чертежником ее Волковым и сверенную с подлинным Начальником Чертежной — инженер-подполковником Савловским и архитекторским помощником Григорашем. На копии имеется пометка: ,,На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: Быть по сему. Николай I-й. Александрия, близ Петергофа. 9-го Августа 1834-го года,—и далее: «Верно: Директор Генерал-Майор Емельянович (?)». Важнейшие особенности этого плана, которым мы отчасти пользовались при составлении „Плана старого Кишинева», суть следующия. Во-первых, весь старый город вплоть до нынешеей Гостинной улицы изображен in statu quo, с его искривленными переулками, и затем, поверх этих кривых линий — очертаний неправильных групп строений старого города, нанесены прямолинейные кварталы нового города, по прожекту Бахметева, дополненному Федоровым. Лишь за Высочайшим утверждением проекта Федорова, настала пора решительных метаморфов в черте старого города. Предстояло урезать старые кварталы и втиснуть их в новые прямолинейные формы. Это было не легко сделать. Старые кварталы были замечательно причудливых форм. Один похож на молдавские бесаги (переметная двойная сумка), другой — на растопырившую лапы жабу, третий —н а стоглавого дракона, четвертый — на самый модный женский башмак с высокоподъемным каблучком и extra-утонченным носком, пятый — на чучело, с огромным носом и отвислыми ушами и т. д. Понятно, что все это должно было подвергнуться немилосердной ампутации. Чучело потеряло сразу обе ноги, и уши и нос или казнено через четвертование, женский башмак превратился в угловатый мужицкий сапог, жаба — в скрытую под круглым щитом черепаху, а стоглавый дракон — в совершенно безглавый труп, как в былине об Алеше Поповиче.
Во-вторых, на федоровском плане впервые устанавливаются названия улиц; но так как характер этих названий явно говорит об их соотношении с бывшими раньше в ходу у коренных жителей топографическими терминами, то мы сочли нужным пометить на нашем Плане улицы старого города литерами, а здесь дадим их обяснение.
В третьим, весь нижний город до нынешней Николаевской улицы представляет па плане Федорова море черных точек, означающих деревянные постройки; киноварных пятен, означающих каменные постройки, приходится на каждый квартал старого города по одному, много — по два; есть кварталы и совершенно без каменных построек. Вврочем такой же малый процент каменных построек показан в мало-мальски обстроенных кварталах верхнего города, между нынешними Киевской и Леовской улицами. При этом надо заметить, что даже в 1834-м году выше Леовской улицы и между образующими угол линиями Буюканской и Александровской (тогда Московской) улиц, к северо-западу, были пустыри, а потому на плаве Федорова, во ввовь распланированных кварталах этих окраин не показано ни одной постройки, Необстроенными показаны на плане Федорова и нынешние кварталы вдоль бульвара по Семинарской и Губернской улице и квартал городской управы, „отведенные для постройки присутственных мест и домов для помещения Областного Начальства», а равно квартал армянского подворья и два следующих, к югу, между Александровской и Киевской улицами. Кафедральный собор с колокольней уже нанесены на план Федорова, как оконченные к тому времени постройкой, но часовенная башня еще отсутствует. Нынешняя Николаевская (тогда Каушанская) улица, параллельная нижней стороне бульвара, к югу была запружена деревянными домами при повороте в первый же переулок нижнего города (Минковский), так что выход к югу (по направлению к нынешнему вокзалу) был по нынешней Гостинной улице.
Теперь приступим к объяснению знаков нашего Плана и начнем с литер и римских цифр: первыми помечены на Плане продольные улицы старого города с низовьев (р. Бык) до нынешней Николаевской ул., а вторыми—поперечные улицы того же старого города, в порядке от севера к югу.
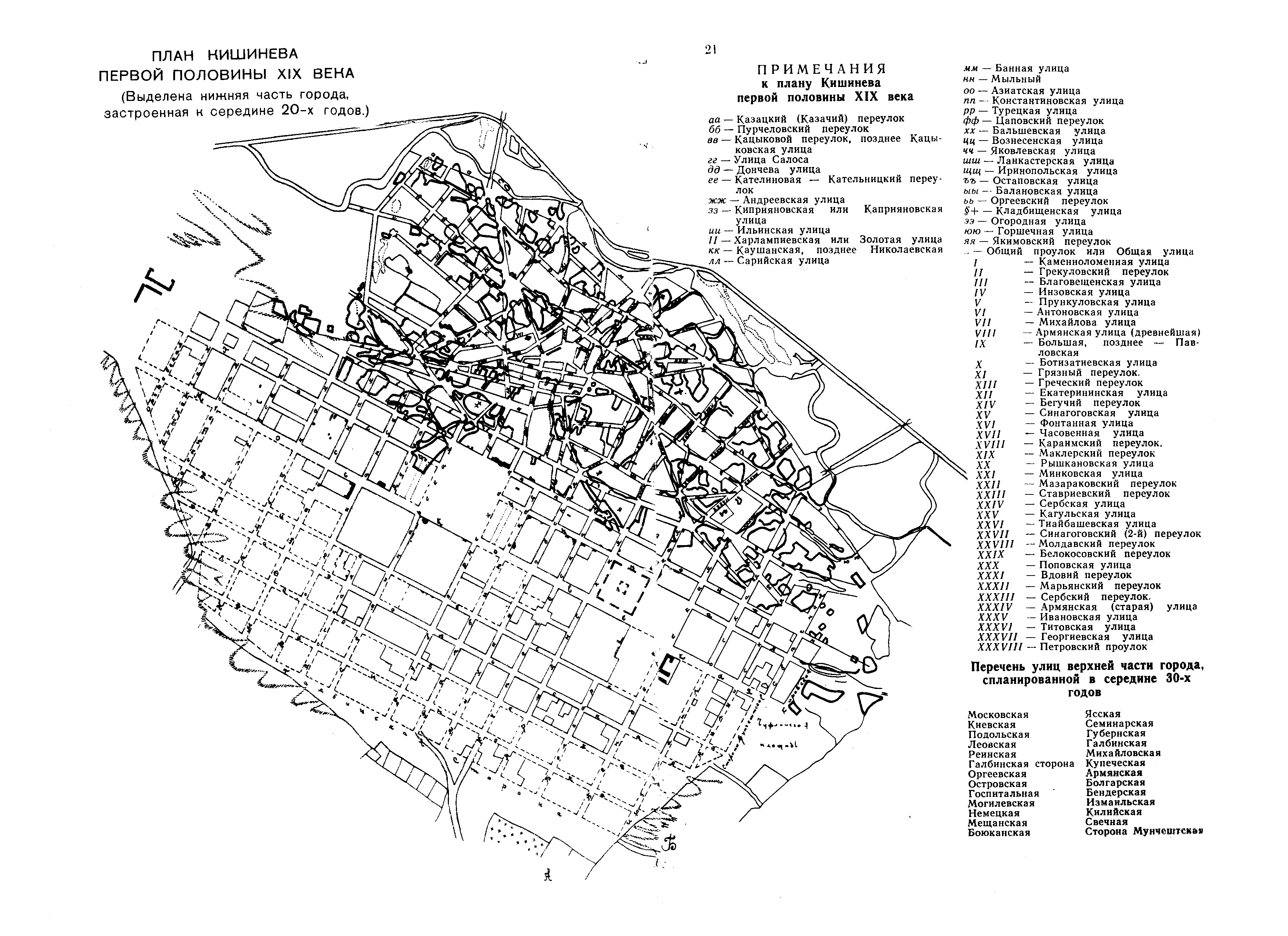
аа, Казацкий (Казачий) переулок.
бб, Пурчеловский переулок. Пурчел—помещик времен Пушкина.
вв, Кацыковой переулок, позднее Кацыковская улица. См. далее замечание к пункту 2.
гг, Улица Салоса. Салос — помещик времен Пушкина.
дд, Доничева улица; название получила от фамилии помещика Донича, коему принадлежал дом на так называемой Инзовой горе, нанимавшийся для наместников на городские деньги.
ее, Кателиновая— Кательницкий переулок.
жж, Андреевская улица.
зз, Киприяновская или Каприяновская улица.
ии, Ильинская улица.
ии, Харлампиевская или Золотая улица. Название свое Харлампиевская улица получила от фамилии купца Егора Хараламова времен Пушкина. Хараламов и Чаплыгин, именитейшие тогдашние купцы содержали громадные штаты прислуги, как видно из исповедных росписей за те годы.
кк, Каушанская, ныне Николаевская улица.
лл, Сирийская улица.
мм, Банная улица.
нн, Мыльный, позднее Грязный переулок или Синагоговская улица.
оо, Азиятская улица.
пп, Константиновская улица.
РР, Турецкая улица.
сс, Макареско переулок, названный по имени престарелого бояра времен Пушкина, сардаря Федора Макареско.
тт, Еврейская улица, позднее — Кагульская.
уу, Фарисеевская улица.
фф, Цаповсвий переулок, по имени собственника Цапу.
хх, Бал(ь)шевская улица, в продолжении—Огородная сторона. Название свое Балышевская улица получила от фамилии Бальшей. „Во все пребывавие Пушкина в Кишиневе, Балша, единственного тогда Бессарабского помещика этой фамилии (каммергера Ивана, известного под именем Янко), не только что в Кишиневе, но и в известном его поместье Гура—Галбина, не было. В начале он жил в Париже и Вене, а потом в Петербурге. Появление трех Балшей в Кишиневе принадлежат второй части пребывания Пушкина в Кишиневе, т. е. с мая 1821-го по июнь 1823 года. Но эти Балши были бежавшими по случаю гетерии, из Ясс, (Липранди). Об них см. далее в отделе: „Эмигрантское общество в Кишиневе». Эти Балши поселились вероятно в домах Янко Балша в улице его имени.
цц, Вознесенская улица.
чч, Яковлевская улица.
шш, Ланкастерская улица. На ней при Пушкине была школа взаимного обучения по методу Ланкастера; школой заведывал майор В. О. Раевский, называвшийся „начальником дивизионной ланкастерской школы». Дело это поддерживал гуманный начальник 16-й дивизии генерал-майор М. Ф. Орлов.
щщ, Иринопольская улица, назвавная так по имени митрополита Григория Иринопольского, эмигрировавшего при Пушкине из Молдавии.
ъъ, Остаповская улица.
ыы, Балановская улица, по имени Василия Баланеско, члена Верховного Совета при Пушкине.
ьь, Оргеевский переулок, ныне продолжение Кожухарской ул. ьь, Кладбищенская улица, названная так по бывшему в южном конце её старому еврейскому кладбищу; позднее на нее перенесено название упраздненного „Вдовьего переулка».
ээ, Огородная улица,
юю, Горшечная улица.
ЯЯ, Якимовский переулок.
ѳѳ, Общий проулок или Общая улица.
I. Каменноломенная улица.
II. Грекуловский переулок. Грекулов — помещик времен Пушкина, впоследствии приобретший у Наумова дом, где rвартировал Пушкин. Ср. замечание к пункту 66.
III. Благовещенская улица.
IV. Инзовская улица, так названная в память высокогуманного начальника Пушкина, незабвенного попечителя о болгарских колонистах, генерала Ивана Никитича Инзова, исполнявшего должность полномочного наместника Бессарабской Области при Пушкине.
V. Прункуловская улица. См. замечание к пункту 90.
VI. Антоновская или Антоньева улица. См. замечание к пункту 67.
VII. Михайлова улица, позднее Макареско и Антоновский переулок, и наконец — Михайловский переулок.
VIII. Армянская улица (древнейшая).
IX. Большая, позднее — Павловская улица.
X. Ботизатиевская или Батезатавская, а вернее — Ботезатовская улица, названная по фамилии бояра времен Инзова Павла Ботезата.
XI. Грязный переулок, позднее — Грязная улица.
XII. Греческий, позднее Серийский пли Сирийский переулок.
XIII. Екатерининская улица.
XIV. Бегучий переулок.
XV. Синагоговская улица, позднее—переулок.
XVI. Фонтанная улица.
XVII. Часовенная улица, позднее — переулок.
XVIII. Караимский переулок, позднее — улица.
XIX. Маклерский переулок.
XX. Рышкановская улица, позднее — продолжение Минковской. — Рышканы—владельцы подгороднего села Вистерничен (Рышкановка то-ж).
XXI. Минковская улица. Минку — помещик времен Инзова.
XXII. Мазараковский или Мазаракинский переулок.
XXIII. Ставриевский переулок. Петриевская улица — ходячее название переулка.
XXIV. Сербская улица, образовавшаяся со времени переселения в 1818-м году из Хотина в Кишинев сербских выходцев, прибывших в Россию с Кара-Георгием. Между сербами были и воеводы, с которыми Пушкин встречался у Липранди и от которых принимался записывать их юнацкие песни, — как свидетельствует А. Ф. Вельтман, От них-то Пушкин мог слышать расказы о Кара-Георгие, герое сербского восстания так метко охарактеризованном в стихотворении „Дочери Кара-Георгия». Сам „Пушкин никогда не видал дочери Кара-Георгия»,—говорит Липранди. ,,Мать ее, в начале 1820 года, приезжала на некоторое время в Кишинев, провожая обратно в Россию старшего сына Кара-Георгия, корнета наших войск, скоро умершего. Б Кишиневе находился младший сын, впоследствии князь, обучался под надзором жившего в Кишиневе воеводы Вучича, но как с мальчиком нельзя было совладать, то она взяла его и месяца за три до приезда Пушкина, возвратилась в Хотин; Пушкин же, что я знаю положительно, никогда в Хотине не был, а при том в это время дочь Кара-Георгия имела не более 6—7 лет». Липранди же подтверждает факт, что Пушкин очень часто встречался у него с сербскими воеводами, поселившимися в Кишиневе — Вучичемь, Ненадовичем, Живковичем, двумя братьями Македонскими и пр., доставлявшими самому Липранди материалы. ,,Чуть ли некоторый записки (о Сербии) Александр Сергеевич брал от меня, — замечает Липранди, положительно не помню. Впрочем, мне не случалось читать что-либо писанное им о Сербии, исключая упомянутые стихи („Дочери Кара-Георгия»), как плоды вдохновения. От помянутых же воевод он собирал песни и часто при мне спрашивал о значении тех пли других слов для перевода: (Эти занятия сказались на „Песнях западных славян», написанных Пушкиным в 1832—33 годах.) На короткое время приезжал Стойкович, профессор Харьковского университета; он был Серб, но виделся с Пушкиным раза два, и очень ему не понравился.
XXV. Кагульская улица.
XXVI. Тиайбашевская или Тиойбашевская улица.
XXVII. Синагоговский (2-ой) переулок.
XXVIII. Молдаванский или Молдавский переулок.
XXIX. Белокосовский переулок.
XXX. Поповская улица; ходячее вазвание — Павловская Малая.
XXXI. «Вдовий переулок», позднее уничтоженный; название ,,Вдовий» перенесено на Кладбищенскую улицу .
XXXII. Марьянский переулок, позднее — Марийнская улица.
XXXIII. Сербский проулок, позднее — Кожухарcкая улица. При Инзове был престарелый бояр Гавриил Кожохар.
XXXIV. Армянская (старая) улица.
XXXV. Ивановская улица.
XXXVI. Титовская улица.
XXXVII. Георгиевская улица.
XXXVIII. Петровский проулок (Безымянный, Без названия).
Переходя к объяснениям арабских цифр считаем нужным заметить, что к пребыванию Пушкина в Кишиневе имеют более близкое отношение пункты: 9, 10, 11, 12, 15, 27, 36, 40, 57, 66, 67 с особым отделом: „Эмигрантское общество в Кишиневе», 70, 72, 85, 86, 90, и 94.
1. Хотинская, позднее Оргеевская застава. Таких застав в тогдашнем Кишиневе было еще четыре. В восточном, нижнем конце нынешней Измаильской улицы была <Бендерская или Каушанская застава (46): по ее имени нынешняя Николаевская улица называлась Каушанскою. В южном конце нынешней Кузнечной улицы (бывшей Галбинской стороны) была Ренисская застава (47), вскоре упраздненная и замененная Измаильскою или Ганчештскою (48), называвшеюся также „Дорогой в Молдавию» и значащеюся на позднейших планах в верхнем, западном вонце Купеческой улицы. У нынешнего моста к вокзалу была Мунчештская застава (49), откуда шла дорога в с. Мунчешты, одно из многих имений пресловутого современника Пушкина Егора Кирилловича Варфоломея, члена Верховного Областного Совета, председателя палаты и откупщика всего края. Наконец в северном конце Гостинной улицы находилась Ясская застава или Выезд на Скуляны (50); так как с этой стороны всегда въезжали в город в былое время высокопоставленные лица молдавской администрации, а позднее —гости из молдавских бояр, то и начинавшаяся у заставы улица получила название Гостинной.
2, 4,5,6,7. Характер имен и фамилий хозяев домов под этими нумерами лучше всего доказывает пестроту тогдашнеяго населения. Михалаки Кацика — молдованин; Тома Паникопуло (он же—Ангел, Инжер) —грек; Киркор Тютюнжий—болгарин; Хаджи Петко—турок, а аптекарь Ертель—еврей. Названия улиц старого города еще боле ярко свидвтельствуют об этой пестроте населения. „Главную массу — говорить Бартенев — составляли, если не ошибаемся, Молдаване, Жиды и Болгаре; но тут же жили Греки, Турки, наши Малороссияне; Немцы; попадались и Караимы, Арнауты, Французы, и даже Итальянцы, каждый с своим говором, с своими обычаями, в своих нарядах. Настоящих русских переселенцев было еще мало. Большую часть русского населения составляли солдаты и чиновники. Военный постой еще более разнообразил картину». Об Арнаутах, бежавших в Россию после молдавского разгрома, вызванного етерией (1821 г.), Пушкин как очевидец пишет в повести «Кирджали»: ,,Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек».—Что касается дома Кацики, то он при Пушкине сыграл довольно интересную роль: в этомь доме была устроена масонская ложа. Здесь жил дивизионный доктор Шулер; родом из Альзаса, взятый в плен в 1812-м году на Березине, из младших хирургов одного конного французского полка. ,,Он или Пущин (Павел Сергеевич, бригадный командир) был главным мастером, не знаю—пишет Липранди. В числе привлеченных в ложу выходцев—простаков был один болгарский архимандрит Ефрем. Дом Кацики находился в нижней части города, недалеко от старого собора, на площади, где всегда толпилось много Болгар и Арнаутов, обративших внимание на то, что архимандрит, въехав во двор, огражденный решеткой, отправил свою коляску домой, что сделали и некоторые другие, вопреки существовавшего обычая. Это привлекло любопытных к решетке тем более, что в народе прошла молва, что в доме этом происходит „судилище диавольское». Когда же увидели, что дверь одноэтажного длинного дома отворилась и в числе вышедших лиц был и архимандрит с завязанными глазами, ведомый двумя под руки, которые, спустившись с трех—четырех ступенек крыльцо, тут же вошли в подвал, двери коего затворились, то Болгарам вообразилось, что архимандриту их угрожает опасность. Подстрекнутые к сему Арнаутами, коих тогда было много из числа бежавших гетеристов, Болгары бросились толпой к двери подвала (Арнауты не трогались); выломали дверь и чрез четверть часа с триумфом вывели по мнению их спасенного архимандрита, у которого наперерыв тут же каждый просил благословения. Это было до захода солнца, и вечером весь город знал о том. Рассказывалось много сказок, навредивших Пущину. Излишне говорить о подробностях. Пушкин знал из первых, ибо он случился дома, когда Инзову донесли об этом». Пушкин и генерал Бологовский безжалостно острили над этим происшествием, в присутствии Пущина.
3.Гоутбвахта (гауптвахта), очевидно военная; по близости — Казацкий переулок (лит. аа).
8. Ильинская церковь. Кроме нее ко времени приезда Пушкина в Кишинев здесь было еще шесть церквей: соборная Свв. Архистратигов — ныне Архангело-Михайловская или Старый Собор (51), соборная болгарская Вознесенская (52), Рождество-богородичная, позднее названная «Мазаракиевскою» — по имени ктитора-реставратора Мазаракия (53), Благовещенская (54), Св.-Харалампиевская (55) и Св.-Георгиевская (56). Об этих церквах А. Я. Стороженко в 1829-м году отозвался так: „Архитектура монастырей сих не Европейская; на фронтонах изображены святые угодники. Пестрота красок обращает на себя зрение, и напоминает,, что мы уже в Азиятском городе». В старом соборе (Св.-Михайловском) бывали у исповеди и причастия все военные чины, штаты областной администрации и консистории. В списках бывших у исповеди и святого причастия в 1822-м году мы нашли Исправляющего должность полномочного наместника Области генерал-лейтенанта и кавалера Ивана Никитича Инзова, а среди трех „состоящих при нем чиновников» (между адъютантом армии майором Владимиром Маливинским и тит. с. Дм. Смирновым) — коллежского секретаря Александра Пушкина, 23-х лет.
9. Дом титулярного советника Тодора Крупенского. Этот поистине исторический дом стоит и поныне на своем месте. В стенах этого дома бессарабское дворянство видело на балу императора Александра Благословенного в мае 1818 года. Это было самое счастливейшее время для Кишинева, по словам Вельтмана, приехавшего в Кишинев как раз в пору, когда все готовилось с нетерлеливым ожиданием к приему императора Александра блаженной памяти. Государь проезжал тогда чрез Бессарабию на свидание с императором Австрийским на границах царств в городе Черновцах. Молдавские бояре стекались отовсюду в Кишинев, и этот город кипел народом. В сумерки пронеслись крики встречи, которые приближались неумолкающим гулом от возвышений по дороге из Дубоссар к городу, неслись городом и умолкали на время у собора, чтобы снова сопровождать императора до дома наместника (57), который, возвышаясь на отдельном холме нод озером, превратился мгновенно в дворец освободителя Европы. На другой день государь император был в митрополии у обедни и потом на завтраке у седовласого экзарха (Гавриила), и в тот же день — на балу, данном дворянством бессарабским в огромной зале, нарочно устроенной в доме Тодора Крупенского. В угождение изящному вкусу государя к колоннадам, явился вокруг залы ряд огромных колонн порфирового цвета, обвитых вязами разноцветвых огней. Спозаранку зала наполнилась уже боярами, куконами и куконицами (барынями и барышнями). Хотя наместница, Виктория Станиславовна Бахметева успела в короткое время много внушить образованного вкуса в дам Кишиневских (оне знали, чтб такое бал; куконицы знали уже необходимость в французском магазине мод, умели уже рядиться по венским и парижским образцам, умели рисоваться в кадрилях и мазурках), но к балу, где будет присутствовать император, съехалось множество бояр со всех сторон, даже из княжеств Молдавии и Валахии, которым известны были только приличия азиатские. Приезжие куконы облеклись во всю роскошь Европы и Востока, и если б наместница, как заботливая хозяйка приема, не обратила заблаговременно внимания на наряды посетителей, государь застал бы на балу всех дам окутанными в драгоценные турецкие шали, а бояр — в кочулах (смушковых шапках) и в папушах (туфлях) сверх желтых и красных мешти (сафьяновых носков). Почти перед самым входом государя шали были сняты, а кочулы нескольких сот голов были свалены в кучи за колоннами. Когда государь вступил в залу, все стеснилось в молчании, без шуму, почти , незаметно, в круг, коего первые ряды состояли из женщин; женщин окружали стеной бородатые первостатейные бояре, а за ними — бояре второго и третьего класса. Бал был открыт генералом Милорадовичем; между тем государь говорил с наместницей и потом обошел с нею, преследуемый рядами польского, чрез все комнаты, удостоил внимания других почетнейших дам, а потом началась французская кадриль — первая в Кишиневе, выученная в доме наместницы. В то время Пульхерия (Егоровна) Варфломей была в цвете лет, во всей красе девственной, которой посвятил и Пушкин несколько восторженных стихов (полагают — «Я говорил тебе: страшися девы милой»). Ей только одной из девиц Кишинева государь сделал честь польским и несколько вопросов. Любопытство впоследствии допытывалось от простодушной девушки, что с ней говорил государь. На вопрос часто ли она посещает балы, она отвечала: ,, Non sire, parce que ma tante Elise ne se porte pas bien». Неподвижность всех и царствующая тишина, и взоры, устремленные на государя, должны были его скоро утомить. Он пробыл не более часа времени и уехал…
На третий день государь выехал из Кишинева, но жители долго еще хвалились, что император назвал Бессарабию „золотым краем». При Пушкине в доме Крупенского находились театр и присутственные места. С началом етерии в Молдавии, из Ясс переселилась в Кишинев немецкая труппа актеров, которая в зале Крупенского „продекламировала всего Коцебу, при чем не были упущены, к удовольствию публики, и балеты» (Вельтман). Пушкин посещал эти спектакли и чувствовать себя на них довольно забавно. В. П. Горчаков, чуть не в первый же день по приезде в Кишинев на службу к М. Ф. Орлову попавший на ,,представление в бедном кишиневском театре, кое как освещенном сальными свечами», видел там Пушкина. ,,В числе многих — рассказывает Горчаков — особенно обратил мое внимание вошедший молодой человев, небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости, и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно ХОТЕЛОСЬ бы спросить: что с тобою? какая грусть мрачит твою душу? Одежду незнакомца составляли черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары. Кто бы это, подумал я, и тут-же узнал от Алексеева (чиновника канцелярии Инзова), что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы. После перваго акта какой-то драмы, весьма дурно игранной, Пушкин подошел к нам; в разговоре с Алексеевым он доверчиво обращался во мне, как бы желая познакомиться». Замечание Горчакова, что игру актеров разбирать нечего, что каждый играет дурно, а все вместе очень дурно, рассмешило Пушкина; он начал повторять эти слова и тут же вступил с ним в разговор, содержание которому дали воспоминания о петербургских артистах, о Семеновой, Колосовой и других. Поэт невольво задумался. „В этом расположении духа он отошел от нас — замечает Горчаков — и пробираясь между стульев со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека остановился перед какою-то дамою… мрачность его исчезла; ее сменил звонвий смех, соединенный с непрерывною речью… Пушкин беспрерывно краснел и смеялся; прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала».
С Тодором Крупенским, титулярным советником. не нужно смешивать другого Крупенского, Матеея Егоровича, статского советника и вице-губернатора. О нем см. 36.
10. Дом штабс-капитанши Другановой, по первому мужу— Кешко. С ее дочерью, вышедшей замуж за полковника Вакара, Пушкин находил удовольствие танцевать и вести нестесняющий разговор; она была в дружбе с Аникой Сандулаки, вышедшей замуж за помещика города Бельц — Катаржи. Обеих Пушкин любил за резвость и свободную болтовню. В доме Кешко помещался верховный совет. Рядом с этим домом на Плане помечен дом Стрижевского (58), также существовавший при Пушкине. К Кешко Пушкин заходил очень часто есть дульчецу, в особенности когда там квартировал В. Ф. Раевский (Липранди).
11. Большой каменный дом, с флигелями, Егора Кирилловича Варфоломея, отца Пульхерии, ко времени приезда Пушкина в Кишинев был уже заложен. Все же в нем Пушкину едва ли привелось плясать. Балы и вечера устраивались в другом каменном болышом доме Варфоломея (59), который находился к востоку от дома Крупенского, по той же линии, почти в середине квартала, образуемого Губернскою, Николаевскою, Харалампиевскою и Минковскою улицами. Охоту Варфоломея к балам, доведшую его до потери нажитого состояния и большого дома по Александровской улице, перешедшего в казну и со времени губернатора Федорова называемого „губернаторским домом», Вельтман объясняет следующим образом.
,,Отец Пульхерии, некогда стоявший с чубуком в руках на запятках бутки (коляски) ясского господаря Мурузи, но потом владетель больших имений в Бессарабии, председатель палаты и откупщик всего края, во время Пушкина жил открыто; ему нужен был зять русский, сильная рука которого подержала бы предвидимую несостоятельность по откупам. Предчувствуя сбирающуюся над ним грозу, он пристроил к небольшому дому огромную залу, разрисовал ее как трактир и стал давать балы за балами, вечера за вечерами. Свернув под себя ноги на диване, как паша, сидел он с чубуком в руках и встречал своих гостей приветливым: „пофтим» (просим). Его жена, Марья Дмитриевна, была во всей форме русская говорливая, гоетеприимная помещица; Пульхерица была полная, круглая, свежая девушка; она любила говорить более улыбкой, но это не была улыбка кокетства, — нет, это просто была улыбка здорового, беззаботного сердца. Никто не припомнить из знавших ее в продолжение нескольких лет, чтоб она на кого-нибудь взглянула особенно; казалось, что каждый, кто бы он ни был и каков бы ни был, для нее был не более, как человек с головой, с руками и с ногами. На балах со всеми кавалерами она с одинаковым удовольствием танцевала, всех одинаково любила слушать, и Пушкину так же, как и всякому, кто умел ее рассмешить или польстить ей самолюбию, она отвечала: „Ah, quell vous etes, monsieur Pouchkine!» Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти.
,,Но Пульхерица была необъяснимый феномен в природе; стоит, чтоб сказать мои сомнения на счет ее. Многие искали ее руки, отец и мать изъявляли согласие, но едва желающий быть нареченным приступал в исканию сердца, все вступления к обяснению чувств и желаний Пульхерица прерывала: „ Ah, quell vous etes! Qu’est ce que vous badinez! » И все отступалось от исканий; сердца ее никто не находил,—может быть, его и не было, или по крайней мере, оно было на правой стороне, как у анатомированного в Москве солдата. Когда по делам своим отец ее предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться, вместо дочери, в одного из моих товарищей (Владимира Петровича Горчакова, так же офицера штаба и приятеля Пушкина), но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. „Мусье Горчаков», говорил ему Варфоломей,—„вы можете положиться на мою любовь и уважение м вам». „Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить». „Поверьте мне, что она вас любит», говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским.
„Смотря на Пульхерию, которой по наружности было около восемнадцати лет, я несколько раз покушался думать, что она есть совершеннейшее произведение не природы, а искусства. „Отчего», думал я,—„у Варфоломея только одна дочь, тогда как и он, и жена еще довольно молоды?» Все движения, который она делала, могли быть механическими движениями автомата. „Не автомат ли она?» И я присматривался к ее походке: в походке было что-то странное, чего и выразить нельзя. Я присматривался на глаза: прекрасный, спокойный взор двигался вместе с головою. Ее лицо и руки так были изящны, что мне казались они натянутой лайкой. Но Пульхерия говорит… Говорил и Альбертов андроид с медным лбом. Я обращал внимание на ее разговоры; она все слушала кавалера своего, улыбалась ва его слова и произносила только: ,,Qu’ est ce que vous dites?Ah, quei vous etes!» и иногда: ,,Qu’ est ce que vous badinez?» Голос ее был протяжен, в произношении что-то особенное, необъяснимое. „Неужели это — новая Галатея?» думал я… Но последний опыт так убедил меня, что Пульхерия — не существо, а вещество, что я до сих пор верю в возможность моего предположения. Я замечал: есть ли она. Поверит ли мне кто-нибудь? Она не ела; она не садилась за большой ужин, ходила вокруг столиков, расставленных вокруг залы, за которыми располагались гости по произволу кадрилями; обращаясь то к тому, то к другому, она повторяла: „Porquoi ne mangez-vous pas?» И если кто-нибудь отвечал, что он устал и не может есть, она говорила: „Ah, quel vous etes!» и отходила.
„Пульхерия не существо», думал я; — но каким же образом ее отец, сам ли гений механического искусства, или приобревший за деньги механическую дочь, хлопочет, чтоб выдать ее замуж?» И тут находил я оправдание своего предположения: ему нужно утвердить за дочерью большую часть богатства, чтоб избежать от бедствий несостоятельности, которую он предвидел уже по худому ходу откупов; зятю же своему он запер бы уста золотом; при том же, кто бы решился рассказывать, что он женился на произведении механизма?»
Спустя восемь лет Вельтман приезжал в Кишинев и видел „вечную невесту» в саду кишиневском: „она была почти таже, механизм не испортился, только лицо немного поистерлось.»… Только в тридцатых годах Пульхерия Е. Варфоломей вышла за Мало, греческого консула в Одессе. Вот почему в известном шуточном стихотворении „Джок» (молдавский танец), приписываемом Пушкину и бывшем в большом ходу у наших дедов—кишиневцев, Пульхерица фигурирует то как „кишиневский наш божок», то как „устарелый наш божок».
Сам „Пушкин — пишет Велтман — часто бывал у Варфоломея. Добрая, таинственная девушка ему нравилась, — нравилось и гостеприимство хозяев. Пушкин посвятил несколько стихов Пульхерице, которые я однакоже не припомню» — прибавляет Велтман.
Читатель вероятно помнит восторженные стихи Пушкина в „Евгении Онегине» о ножке русской Терпсихоры. Действительно, юноша-поэт был в восторге от танцев. „Случаи к любезностям и болтовне с женщинами, до которых Пушкин всегда был большой охотник», пишет Бартенев, — „всего чаще представлялись в танцах. Пушкин охотно и много танцевал. Ему нравились эти пестрые кишиневские, собрания, где турецкая чалма и венгерка появлялись рядом с самыми изысканными, выписанными из Вены, нарядами. В Кишиневе тогда славились и приглашались на все вечера домашние музыканты боярина Варыоломея, из цыган». О характере этого оркестра — хора из цыгань подробнее рассказывает В. П. Горчаков следующее. «В промежутках между танцами они пели, акомпанируя себе на скрипках, кобзах и тростянках, который Пушкин по справедливости называл цевницами. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии… Пушкина занимала известная молдавская песня: „те юбеск песте масура» и еще с большим вниманием прислушивался он к другой песне: „ардема, фридема», с которою породнил нас своим дивным подражанием в поэме „Цыганы»: Жги меня реж меня. Его занимала и мититика — пляска с пением, но в особенности так называемый сербешти (сербская пляска).»
Вельтман так же помнит песню Земфиры. Он пишет: „Между девами-цыганками, живущими в доме почти каждого молдавского боярина, можно найдти Земферику или Замфиру, которую воспел Пушкин, и которая, в свою очередь, поет молдавскую песню: Арды ма, фриджи ма, На (Пи) карбуне пуне ма! (Жги меня, жарь меня, на уголья клади меня). Но посреди таборов нет Земфиры» — замечает Велтман. И, однако, Вельтман не прав.: «Воспоминания» Смирновой-Волошиновой (см. „Русск. Обозр.» 1897 г. кн. 8) обясняют, каким образом среди полудиких кочевников-цыган могла разыграться драма, подобная изображенной в поѳме Пушкина. Дело в том, что по условиям своего быта орда цыган бывала задерживаема на окраине города в течение долгого времени и потому испытывала на себе всю силу влияния городских нравов.
Не всегда однако Варфоломей довольствовался своею собственною музыкой. Иной раз, для большего блеска, приглашаемы были военные музыканты. В таких случаях Пушкин заранее ликовал и обнаруживал лихорадочное нетерпение. Так в Январе 1823 года прошел слух, что в один из ближайших понедельников Варфоломей намерен дать блестящий гранд’бал и пригласить славных музыкантов Якутского полка (стоявшего перед тем с Воронцовыи в Мобеже). Желая доподлинно разузнать об этом бале, Пушкин писал Горчакову с занесенной сугробами Инзовой горы:
Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь,
Сижу я дома как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.
12. Публичный сад. Идея этого сада принадлежит женщине. ,.В воспоминание посещения императором (Александром I-м) Кишинева»— говорит Велтьман — „наместница подала мысль завести публичный, городской сад. Сколько я могу припомнить, государь сам избрал место вправо от митрополии». Надо полагать, что во многих местах отведенного под сад пространства возвышались еще в момент открытия сада дикие деревья, помогшие таким образом сформировать две—три тенистых аллейки, из коих одна и сохранила поныне название „Пушкинской» (лит. В). В 1829-м году, т. е. спустя шесть лет после выезда Пушкина из Кишинева, А. Я. Стороженко, врачебный инспектор времени первой николаевской русско-турецкой войны, заезжал в Кишинев и как очевидец писал: „Казенный сад не обширен, но дорожки правильные. Его насадил бывший Бессарабский Наместник Н. А. Бахметев, и в 12 лет деревья выросли довольно высоко. Аллеи имеют тень; но гуляющих в саду я не приметил. Говорят, что при Бахметеве в заводимом им саду собирался целый город; время сие каждый, а особенно куконы, вспоминают с удовольствием. Жалуются ва теперешнюю скуку, и подлинно в Кишиневе она имеет особенное свое прибежище» «1-го Мая после 7 ч. вечера я побрел — рассказывает далее А. Я. — в казенный сад подышать чистым воздухом, хотя вечером было очень свежо, как обыкновенно в здешнем климате: днем жара, а ночью без шубы быть не возможно. Обошедши сад, в котором, кроме меня, никого не было, вскарабкался я на насыпанной посреди оного курган, и сел на устроенной там скамейке». На позднейших нзображениях „Качелей в Кишиневсвом городоком саду» (издание местной бывшей типографии Дезидериева) длинный вал полукругом, с восседающею на скамьях публикой, представляется чем-то в роде крепостной батареи; при чем с обоих концов на вал ведут крутые лестницы.
Некоторые старожилы (И. В. Кристи) утверждают, что качели и вал с сидениями для наблюдающих находились позади нынешнего здания фотографии Кондрацкаго, где и поныне заметна неровность почвы. Но мы, на основании чертежей старого города, склонны думать, что на этом месте в былое время стояло каменное здание (на планах — киноварий, знак каменных построек) кассино (60), или по местному, ходячему тогда выражению — казино. С этим, по-видимому вполне соглашается замечание в „Воспоминаниях» Липранди. «От упомянутой митрополии – пишет он — находился по той же линии к западу большой каменный (в два этажа и с подвальным) дом (61), в коем помещалось училище (семинария); далее — клубный дом или кассино (тут же и городской сад). Против сада (а не против кассино— sic) был уже заложен большой каменный дом, с флигелями, Варооломея» т. е. нынешний губернаторский дом. Факт тот, что на планах старого Кишинева (до 1834 года) против дома Варфоломея на территории сада нет ни малейшего знака постройки, между тем как в указываемом нами для кассино месте стоит знак солидного каменного здания. Значит Пушкин наблюдал шумные сцены кассино и участвовал в них бок-о-бок с зданием „Благородного Пансиона» (нынешняя квартира ректора семинарии—62), в котором подвизался как лектор и надзиратель (1823—24 гг.) Юрий Иванович Венелин, тогда еще Гуца-Венелович. В ,,3аписках» странствующего поэта В. Г. Теплякова, познакомившегося с Пушкиным в Кишиневе, кассино названо ,.3еленым трактиром в верхнем городе, недалеко от митрополии» Последний курсив наш)—и это опять подтверждает наше мнение. В этот то Зеленый трактир нередко — по словам Теплякова—заходил Пушкин. Там прислуживала молодая молдаванка Марионилла, и одну из ее песен Пушкин переложил в русские стихи—это Черная Шаль. Липранди, правда, не признает этого названия «Зеленый трактир», но он подтверждает однако что «других трактиров в этой части не было». Липранди же сообщяет, что в клубном доме, существовавшем уже в Мае 1820 года, держал вначале буфет Фукс, а потом Жозеф, бывший метр-д’отель Бахметева, заведший родь ресторации во время Пушкина, где точно Пушкин бывал с самим Липранди и другими. Летом приходили закусывать, а вечером есть мороженое, дульчецу и т. п., заказывались именинные обеды (поваром был известный когда-то Тардиф). а осенью и зимой давались балы редко по подписке, но больше с платой за вход. В особенности собрания эти были оживленными с конца 1820-го по 1822 год, во время пребывания в Кишиневе начальника 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова, проживания Князей Теория Матвеевича и Александра Матвеевича Кантакузиных, с их семействами, и Князей Александра, Николая, Георгия и Димитрия Ипсиланти.
На одном из таких балов А. С. Пушкин имел столкновение с полковником С. Н. Старовым, с которым стрелялся. Это было на святках 1822 года, вскоре по возвращении Пушкина из южной Бессарабии, куда он был командирован Инзовым в наказание за дуэль с офицером Зубовым из за карт. «На святках Кишинев особенно оживился — разсказывает со слов Горчакова Бартенев,—и Пушкин не пропустить случая потанцевать и повеселиться. Но вскоре… ему опять пришлось драться. На этот раз противником его был человек достойный и всеми уважаемый. Это был полковник и командир егерского полка Семен Никитич Старов, известный в армии своею храбростью в отечественную войну и в заграничных битвах. Старов вступился за своего офицера которого по его мнению оскорбил Пушкин. Дело было так. На вечере в Кишиневском казино, которое служило местом общественных собраний, один молодой егерский офицер приказал музыкантам играть русскую кадриль; но Пушкин еще раньше условился с А. П. Полторацким (офицером штаба) начинать мазурку, захлопал в ладоши и закричал, чтоб играли ее. Офицер-новичек повторил было свое приказание; но музыканты послушались Пушкина, которого они давво знали, даром что он был не военный, и мазурка началась. Полковник Старов все это заметил, и подозвав офицера, советовал ему требовать, чтоб Пушкин но крайней мере извинился перед ним. Застенчивый молодой человек начал мяться и отговаривался тем, что ов вовсе не знаком с Пушкиным. ,,Ну так я за вас поговорю», возразил полковник, и после танцев подошел в Пушкину с вопросами, вследствие которых на другой день положено быть поединку». Стрелялись верстах в двух за Кишиневом, по всем правилам — с секундантами и распорядителями, но метель была причиной двукратного промаха с обеих сторон, почему положили отсрочить поединок, а затем друзьям удалось помирить противников.
Характерна анекдотическая редакция этого эпизода, записанная В. П. Далем. „На бале, где обращение гораздо вольнее нашего, полуевропейская образованность, барыни в модных венских нарядах, мужчины в чалмах и огромных шапках, — Пушкин раcшалился. Он взял даму на вальс, и захлопав кричал музыкантам: вальс, вальс! Офицер подошел с замечанием, что будут танцевать не вальс, а мазурку. Пушкин отвечал: «Ну, я вальс, а вы мазурку»; музыка заиграла, и Пушкин провальсировал».
С наплывом выходцев из Ясс, Бухареста и Константинополя по случаю етерии (с марта 1821 года), балы в клубе продолжались довольно оживленно вплоть до 1825 года, когда сделался известным памфлет Ф. Ф. Вигеля на кишиневские эмигрантское и местное молдавское общество, — памфлет, в котором — по выражению Липранди — Вигель коснулся до будуарных сношений, по большей части созданных его желчью и больным воображением»; после этого собрания в клубе вовсе прекратились на все время калифатства здесь Вигеля в повременном губернаторствовании.
13. Гоштпиталь общественный, в отличие от „военной госпитали», возникшей позднее, в 1828-м году, и „помещавшейся во временном казенном кирпичпом строении, где ныне стоит корпус 1-ой мужской гимназии и в восьми гражданских домах в разных частях города» (А. Я. Стороженко).
14. Боюканский ручей и ныне журчит в долине, отделяющей городские усадьбы от буюканских. На плане он не мог быть помечен, так как из-за него пришлось бы занести на чертеж слишком большое пространство к северо-западу.
15. Дом коллежского ассесора Замфиракия Рале (правильнее Рали). Этот „обгороженный пространный дом с флигелями» находился, по словам И. П. Липранди, как раз насупротив старого каменного дома Варфоломея, где давались балы и вечера. Двор дома Рали составлял особый квартал в нижнем восточном углу площади, бывшей тогда между Николавскою и Московскою (Александровскою) улицами вплоть до нынешней Синадиновской, бывшей Галбинской (квартал вдоль бульвара, по нынешней Губернской улице, и квартал Полицейского переулка не были вовсе застроены). Таким образом с площади, при въезде в Гостинную улицу, слева стоял в отдалении дом Рали, на право же первым зданием была Уголовная Палата, где ныне Губернское Правление (дом Тараса Шароварова—21); чуть-чуть выше по Галбинской улице стоял дом председателя Уголовной Палаты, д. с. с. Курика и невдалеке — Гражданская Палата (дом вице-консула Лукашевича— 22). — Об отношениях Пушкина к семейству Рали Липранди пишет :„Из семейных домов Пушкин довольно часто посещал семейство Рали… У Рали или Земфираки, кроме трех сыновей (из коих в особенности один был очень порядочный молодой человек) было две дочери: одна Екатерина Захарьевна, лет двадцати двух, была замужем за коллежским советником Апостолом Константиновичем Стамо, имевшим более пятидесяти лет. Пушкин прозвал его ,,bellier conducteur», и действительно физиономия у него как то схожа была с бараньей, но он был человек очень образованный, всегда щеголевато одетый. Жена его, очень малого роста с чрезвычайно выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, очень умная и начитанная и резво отличалась от всех своими правилами; была очень любезна, говорлива и преимущественно проповедывала нравственность. Пушкин любил болтать с нею, сохраняя приличный разговор. Сестра ее Марья (Мариола) была девушка лет восемнадцати, приятельница Пульхерицы, но гораздо красивее последней и лицом, и ростом, и формами, и к тому двумя или тремя годами моложе. Пушкин в особенности любил танцевать с ней. У Рали танцовали очень редко, но там были чаще музыкальные вечера. В последний год пребывания Пушкина в Кишиневе, она (Мариола) вышла замуж за капитана Селенгинского полка барона Метлеркампфа, впоследствии гусарского майора, и сделалась очень несчастной.» У Рали проживал при Пушкине оригинальный субъекть надворный советник К. П. Л—ка. ,.Это… был маленький человек», расказывает Липранди,—,,лет под сорок, с лицом, часто нарумяненым, напомаженый, вялый в разговоре, но не лишенный остроумия и большой виртуоз на фортепиано. На этом основании он приглашен был на квартиру к бояру Рали,… играл на фортепиано с Мариолой, красивейшей из всех своих кишиневских подруг, и жил во флигеле с тремя ее братьями. Пушкин очень часто заходил к ним и умел обратить Л. более нежели в шута; он обличал его в разных грехах; сцены бывали тут уморительные, ибо, когда Александр Сергеевич развертывался, то не было уже пределов его шуткам, и, если он замечал только, что Л. начинает сердиться, примирение следовало такое: Пушкин бросал Л—ку на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкива с некоторыми и другими)».
16. 16—26 см. „Проэкт».
27. Почтовая „Кантора» около половины 1822-года перешла с Золотой на Каушанскую улицу и поместилась в двух отдельных строениях (63). Между „Канторой» и старым домом Варфоломея находился большой каменный дом (64) содержателя французского магазина Дюпона (Липранди). Областным почтмейстером был при Пушкине полковник в отставке Алексей Петрович Алексеев, днепровский серб, из числа семейств, переселившихся при Петре I-м, храбрый, добродушный, гостеприимный. С новыми переселенцами и Кара-Георгием он не имел ничего общего и никогда не служил в войне против Турок. Из любви к своему дорогому полковническому мундиру, он нарочно отклонял от себя повышение по своей службе в почтовом ведомстве. ,,Пушкин довольно часто бывал у него и впоследствии породнился: брат жены Алексеева, Н. И. Павлищев женился на сестре Александра Сергеевича» (Бартенев.) Впрочем, как люди пожилые и отсталые, ни Алексеев, ни жена его Александра Ивановна, не могли интересовать никакое общество, исключая трех — четырех посторонних партнеров на вечерний вист (Липранди). С этим Алексеевым не нужно смешивать Николая Степановича Алексеева, еще с 1818 года состоявшего в штате наместника, а с 1823 года бывшего чиновником особых поручений при графе Воронцове, с пребывавием в Кишиневе. С нии Пушкин был особенно дружен, а последний год пред выездом из Кишинева жил с ним под одною кровлею, в глиняной мазанке (65) на окраине города, после того как дом наместника дал большие трещины посие землетрясения. Эта мазанка была третьей квартирой поэта (ср. 57-66). О Н. С. Алексееве Липранди пишет: ,,Тогда коллежский секретарь, Николай Степанович Алексеев, по крайней мере десятью годами старее Пушкина, был вполне достоин дружеских к нему отношений Александра Сергеевича. У них были общие знакомые в Петербурге и Москве; и в Кишиневе Алексеев, будучи старожилом, ввел Пушкина во все общества. Русская и французская литература не были ему чужды. Оловом, он из гражданских чиновников был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишиневе подобиѳ образованным столичным людям, которых он привык видеть». Этот же Алексеев занимался, по поручению генерала Киселева, выпиской из архива дипломатических сношений с Сербиею наших главнокомандующих, начиная от Михельсона, Прозоровского, Багратиона, Каменского и Кутузова. Но с другой стороны, вероятно, никто боле Алексеева не поддерживал в Пушкине страсти к нецензурным стихам. Вельтман явно намекает на это, когда говорить: ,,Вероятно, никто не имеет такого полного сборника всех со-чинений Пушкина, как Алексеев. Разумеется, многие не могут быть изданы по отношениям». Да и Липранди, при всем уважении к образованности Алексеева, не скрывает, что знал его за ухаживателя не без успеха.
28-35. См. .,Проэкт».
36. Дом Статского Советника Крупенского, Матвея Егоровича, вице-губернатора времен Пушкина. Этот Крупенский (родом Молдовано-грек) как и Варфоломей жил открыто; у Крупенского почти каждый вечер собиралось общество играть в карты и часто к обеду; у Варфоломея — на пляску по вечерам. Конечно, у Крупенского собиралось более солидное общество, чем у Варфоломея, но Н. С. Алексеев и Пушкин посещали и то и другое. Самому Пушкину по преимуществу нравилиоь собрания и общество Крупевского и Варфоломея: у первого была на первом плане игра и неотменно с сим изрядный ужин, а у второго— танцы. В обоих этих местах он встречал военных, и в каждом из этих обществ был у него его интимный: у Крупенского Н. С. Алексеев, у Варфоломея В. П. Горчаков (Липранди). Жена Крупенского Екатерина Христофорова, из греческого царского рода Комненов, воспитывалась в Смольном монастыре в С.-Петербурге и потому жила и кормила по-русски, что не могло не нравиться Пушкину, потому что ему надоедали плацинты и каймаки других кишиневских хлебосолов (Бартенев). Впрочем Пушкин, по словам Липранди, „предпочитал всему беседу с людьми его понимающими». В частности у Крупенских Пушкин чувствовал себя очень хорошо и между прочим забавлялся сходством своего лица с восточною физиономией Крупенской. Бывало, нарисует Крупенскую—похожа; расчертит ей вокруг лица волоса— выйдет сам он; на ту же голову накинет карандашом чепчик — опять Крупенская (Горчаков). В начале двадцатых годов родная сестра Крупенской вышла замуж за Катакази, впоследствии сенатора, брата Бессарабского губернатора Константина Антоновича Катакази.
37. См. „Проэкт».
38. Дом Армянского Архиепископа Григория. Этот Григорий имел сан митрополита и потому весь квартал армянского подворья назывался прежде „Армянскою Митрополией», в соответстие «Православной Митрополии» (см. 40). Армянский Архиерей имел дома и по Гостинной улице, в самой оффициозной и важной при Пушкине части ее, между Синадиновской (тогда Галбинской) и Армянской улицами. По описанию Липранди, при входе в Гостинную улицу с (бывшей) Галбинской, налево стоял большой дом купца Чаплыгина (17) с флигелями, баней и проч.; потом среди двора, большой каменный, в два этажа, дом губернатора Катакази (67). Насупротив два дома Майе: в одном из них (68) девичий пансион (тут же помещалась и сама хозяйка с замужней племянницей), другой дом, столь же большой, занят был кабинетом генерала Орлова и пр. (69).
Сам же Михайло Федорович жил через улицу в угловом доме, каменном и очень просторном (70). Далее, по этой же стороне, каменный дом с флигелями (председателя Гражданской Палаты) д. с. с. Недобы (71), На противоположной стороне большой дом (72) с флигелем, где помещался начальник съемки полковник Корнилович. Еще далее такие же дома армянского архиерея (73) и Мавроска (74).
39. Дом Коллежского Советника Дическулова. По Липранди, при Пушкине существовали только два большие каменные флигеля Дическула, главный же корпус не был отстроен. На дочери Дическула, довольно пригожей молдаванке, был женат штабс-капитан Калакуцкий, в полном смысле старший адъютант при генерале Орлове, не выходивший из дежурства, а иногда устраивавший и некоторые собственные дела генерала. Калакуцкий, в отличие от других офицеров штаба, вел жизнь домашнюю и не ежедневно обедывал у Орлова; поэтому Пушкин с ним виделся редко.
40. Митрополия. После приезда Пушкина в Кишинев (20 сентября 1820 года) знаменитый митрополит Гавриил Банулеско-Бодони, давший навсегда название «митрополи» кишиневскому архиерейскому дому, прожил еще около полугода. Заболев 26 марта 1821 года простудною горячкою, митрополит-подвижник умер 30-го числа того же месяца. Пушкин был очевидцем многолюдных похорон, как показывает следующий уцелевший отрывок из его дневника: „3-го (апреля). Третьего дня хоронили мы здешнего митрополита; во всей церемонии более всего понравились мне жиды: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли там живописный группы. Равнодушие изображалось на их лицах; со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движения! Они боятся христиан и потому во сто крат благочиннее всех».
Канун этого дня поэт провел за разбором своего чемодана с рукописями, как бы оглядываясь на самаго себя и желая привести в порядок и мысли и дела свои. В дневнике В. Г. Теплякова, которого Пушкин прозвал Мельмотом-скитальцем за странствования по Балканскому полуострову, записано под 1 апреля 182Д года: „Вчера был у Александра Сергеевича. Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумаги.—«Здравствуй, Мельмот, сказал он, дружески пожимай мне руку; помоги, дружище разобрать мой старый хлам, да чур не воровать!» Тут были старые, перемаранные лицейские записки Пушкина, разные неконченные прозаические статьи, стихи, письма Дельвига, Баратынского, Языкова и других. Более часа разбирали мы. все эти бумаги; но разбору конца не предвиделось. Пушкин утомился, вскочил иа ноги и схватив все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал: „Ну их к черту!», скомкал их, кое-как и втискал в чемодан». Тепликов выпросил себе на память стихи «Старица—пророчица» и небольшую статью в прозе о Байроне. „Что тебе за охота возиться с дрянью, заметил Пушкив: статейка о Байроне не помню когда написана; а стихи Старица — лицейсиие грехи, я писал их для Дельвига. Пожалуй возьми их, да чур нигде ве печататать, рассержусь, прокляну на век».— Приводимая Бартеневым выдержка из статьи о Байроне невольно наводить на мысль о применимости пушкинских суждений и к «российскому Байрону» — Лермонтову, автору чудных молитв и памфлета «За все, за все Тебя благодарю я». ,,Вера внутренняя — писал Пушкин — перевешивала в душе Байрова скептицизм, высказанный им меетами в своих творениях. Может быть даже, что снептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной». Не так ли нужно смотреть и на причуды юноши — Пушкина? „Как судить о свойствах и обраае мыслей человева по наружным его действиям?—пишет Пушкин по поводу обвинений Байрона в безбожии. — Он может но произволу надевать ва себя притворную личину порочности, как и добродетели. Часто, по какому либо своенравному убеждению ума своего, он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия; часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями». Смотря под этим углом зрения на «вспышки необузданного, африканскаго нрава» Пушкина, на его дуэли в исходе 1821-го и начале 1822 годов, Бартенев пишет: ,,за него (Пушкина) был его добрый начальнику приставлявший часовых к его комнате, присылавший ему книг для успокоения и развлечения. Инзов и еще несколько человек в Кишиневе хорошо знали, что Пушкину было можно и было за что прощать его увлечения. За беспорядочною жизнью, за необузданностью нрава, за дерзкими речами не скрывалось от них существо, необычанво умное и свыше одаренное. Дело в том, что уже в это время в Пушкине заметно обозначилось противоречие между его вседвевною жизнью и художественным служением. Уже тогда в нем было два Пушкина, один — Пушкин-человек, а другой — Пушкин поэт. Это раздвоение он хорошо сознавал в себе; порою, оно должно было мучить его, и отсюда-то может быть, меланхолически характер его песен, та глубокая симпатическая грусть, которая примешивается почти ко всему, что ни писал он, и которая невольно вызывает участие в читателе.
Он был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чеи казался, и чем даже выражал себя в своих произведениях. Справедливо отзывались близкие друзья его, что его задушевные беседы стоили многих его печатных сочинений, что нельзя было не полюбить его, покороче узнавши. Но, по замечательному, и в психологичеоком смысле чрезвычайно важному побуждению, которое для поверхностных наблюдателей могло казаться простым капризом, Пушкин как будто вовсе не заботился о том, чтобы устранять названное противоречие; напротив прикидывался буяном, развратником, каким-то яростным вольнодумцем. Это состояние души можно бы назвать юродством поэта. Оно замечается в Пушкине до самой его женитьбы, и может быть еще позднее. Началось оно очень рано, но становится ярко заметным в описываемую нами пору».
В «митрополии» еще задолго до приезда Пушкина существовала «крестовая митрополитанская экзаршеская церковь», в которой между прочим изволил слушать обедню 28 апреля 1818 года император Александр I. Пушкин, как чиновник штата наместника, исповедывавшийся при Архангело-Михайловском соборе, чаще посещал «митрополию». Об этом свидетельствуют стихи, сохраненные в «3аписках» Теплякова:
«Дай, Никита, мне одеться: В митрополии звонят».
«Это значило», пояснят Бартенев,—«пора идти к обедне в новый верхний город». —Подлинность приведенного двустишия для нас не подлежит сомнению: среди бывших у исповеди в 1822-м году служителей штата Наместника мы нашли двух Никит: Никиту Маникова и Никиту Ухова. Который из них был—по словам Бартенева — „верным и преданным слугою» Пушкина и жил в прихожей квартиры поэта в доме Наместника — решать не беремся.
41. Дом Действительного Статского Советника Варлама. Варлам, бывший министр финансов (вистиар-казначей) Валахии времен русско-турецкой войны 1806—12 гг.,—один из выдающихся и честнейших сподвижников сенатора Кушникова по упорядочению ввутренней жизни княжесгв, в помянутую эпоху. Постоянная борьба с антиобщественными, эгоистическими поползновениями других бояр Дивана — вот что отличало Варлама из числа всех его современников. С открытием етерии Варлам бежал в Бессарабию, так как слишком был убежден в шаткости предприятия Владимиреско и Ипсиланти. — В Кишиневе Варлам имел и другой дом (76)—на углу Киевской и Семинарской улиц, где ныне стоить большой дом Донича. Приводим заметку Липранди о других домах по Киевсвой улице, во времена Пушкина. „За митрополиею, в улице параллельной фасаду, несколько очень комфортабельных домов; в одном из них помещался член верховного совета Н. В. Сушков (75), в другом д. с. с. Варлам (76); далее, член казенной палаты Фурман, семейный и дававший вечера (77); тут же дом каменный благочинного Лончковскаго (78); дом губернского землемера Этнера, жена коего держала женский пансион (79—впоследствии приобретевный инженером Савойским). «Конечно,—прибавляет Липранди—, все это не столичный палаты, но и не уступали общим губернским зданиям и находились уже тогда, когда Александр Сергеевич приехал в Кишинев».
42—45. См. „Проэкт».
46—50. См. замечавие в пункту 1.
51—56. См. замечание в пункту 8.
57. Дом Наместника. От этого дома, принадлежавшего боярину Доничу (проживавшему большею частью за границей) и нанимавшегося для наместников за городские деньги, давным давно нет и следа. Но до конца шестидесятых годов развалины его еще оставались целыми. Вид дома сохранен для любителей старины благодаря снимкам 40-х и позднейших годов (между прочим в Одесском Альманахе 1840 года). Пред Инзовым, давшим навсегда тогда отдельному от города холму название „Инзовой горы», в доме этом жил два года (1818—по июнь 1820) первый бессарабский наместник Алексей Николаевич Бахметев, один из известнейших генералов Александровского времени, состоявший также подольским военным губернатором. На время приезда в Кишинев императора Александра этот дом „мгновенно превратился во дворец освободителя Европы» (Вельтман). Летом 1820 года здесь поселился как исправлявший должность наместннка Бессарабии главный попечитель южных колоний России генерал Иван Никитич Инзов, а к зиме того же года перешел сюда на жительство и Пушкин, первоначально остановившийся к заезжем доме (66) русского переселенца мещанина Ивана Николаева Наумова (угол Антоновской и Прункуловской улиц) Дом наместника представлял собою довольно большое двух-этажное здание: вверху жил сам Инзов, внизу двое — трое его чиновников. При доме в саду находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник. Рассказывают, что Пушкин из шалости и желая подтрунить над целомудрием своего старого начальника — холостяка, нашел средство выучить попугая, в стоявшей на балконе клетке, одному бранному молдавскому слову. Инзов узнал об этом в первый раз при следующей обстановве. В день Пасхи 1821 года преосвященный Димитрий (Сулима) был у генерала; в зале был накрыт стол, уставленный приличными этому дню блюдами; благословив закуску, Димитрий вошел в открытую дверь, на балкон, за ним последовагь Инзов и некоторые другие,—в том числе Ивав Петрович Липранди, передающий эту сцену. Полюбовавшись видом, Димитрий подошел к клетке и что-то произнес попугаю, а тот встретил его помянутым словом, повторяя его и хохоча. Когда Инзов проводил преосвященного, то, встретив в числе других и Пушкина, Иван Никитич, с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим, сказал Пушкину: ,,Какой ты шалун! преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось. — Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них был прекрасный; судя по тогдашним отзывам — самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом, в лощине, виднелось как ва ладони течение речки Быка, тогда разливавшегося здесь в небольшое озеро. Левее, каменоломни Молдаван, и еще левее новый город. Вдали рисовались горы с белеющимися домиками дальнего села. Стол у окна, диван, несколько стульев, разбросанные бумаги и книги, голубые стены, облепленные восковыми пулями, следы упражнений в стрельбе из пистолета, вот какой вид представляла комната, которую занимал Пушкин. Другая или прихожая, служила помещением верному и преданному слуге его Никите… В этом то доме Пушкин прожил до конца 1821 года.
Еще весной этого года, после землетрясения, от которого треснул верхний этаж и стены раздались в нескольких местах, Инзов на время перешел в другую квартиру; Пушкин же продолжал жить под развалинами. Его воображению могла даже казаться заманчивою такая жизнь. ,,Тогда в Пушкине—говорить Вельтман — было еще несколько странностей, быть может, неизбежных снутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Но уединение посреди развалин наскучило ему, (а может быть и зима с своими сугробами дала себя почувствовать прихотливому отшельнику, поставленному в необходимость протаптывать себе дорожки как-нибудь) и он переехал жить к Алексееву» (65). К лету 1821 года по всей вероятности нужно по преимуществу относить и следующие замечания Вельтмана. „Утро посвящал он (Пушкин) вдохвовенной прогулке за город, с карандашем и листом бумаги; по возвращении, лист весь был исписан стихами, но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них то составлялись роскошный нити событий в поэмах: „Кавказский пленник», „Разбойники», начало „Онегина» и мелкие произведения, напечатанные н ненапечатанные. С наступлением страды знойного южного дня Пушкин уединялся в прохладной атмосфере покинутых развалин и, если не сортировол утренние наброски, то зарывался в свои старые рукописи или в чтение какой нибудь хорошей книги, взятой у Липранди.
К этому времени относятся стихи из послания Пушкина к петербургским друзьям:
В уединении мой своевравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум,
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И в просвещении стать с веком наравве.
Только осенью 1821 года Пушкин мог наблюдать виноград из окон своей квартиры и писать:
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.
Вторую часть дня Пушкин обыквовенно проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать и то не всегда… Стола, разумеется, он не держал, а обедывал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих и в трактирах… Позднее дом наместника был отремонтирован и Инзов вновь поселился в нем (уже по отъезду Пушкина к графу Воронцову в Одессу, в мае 1823 года); по крайней мере А. Я. Стороженко в 1829-м году писал: ,,На одной возвышенности выстроен большой дом, занимаемый ныне Генералом Инзовым…» Но и после неоднократных ремонтов, дом продолжал давать трещины, что вероятно зависело от свойств почвы, вдобавок расшатанной вследствие близости каменоломен.
58. Дом Стрижевского. В дом Ивана Дмитриевича Стрижевского как и в некоторые другие дома, Пушкин являлся лишь «иногда с знакомыми» (Липранди). Чересчур дородная жена Стрижевского Марья Ивановна имела забавные претензии.
59. См. замечание к пункту 11.
60—62. См. замечание к пункту 12.
63—65. См. замечание к пункту 27.
66. Дом (заезжий) Ивана Николаева Наумова, русского переселенца, состоявшего при квартирной коммиссии и весьма известного в городе как при Пушкине, так и долго после. „Он был мещанин и одет, как говорится, в немецкое платье.., Дом его и флигель были очень опрятны и не глиняные; тут останавливались все высшие приезжавшие лица, тем более, что в то время, кроме жидовов Гольды и Исаевны, не куда было заехать. В 1821 году армянин Антонио открыл заезжий дом (тут же по соседству с Наумовым, через улицу—80), но он был невыносимо грязен во всех отношениях и содержим ва азиатский манер — каравансераем. Пушкин впоследствии посещал иногда биллиардную, находившуюся в этом трактире» (Липранди). Пушкин, надо полагать, переехал от Наумова в нижний этаж дома наместника только к зиме 1820 года. По крайней мере Наумов долго (до 50-х годов) интересовал чиновннков Областного Правления рассказами о жизни Пушкина в его доме и рассказы эти подтверждал и сослуживец Пушкина, года три тому назад умерший (117 лет от роду) Пршебыльский. Бывший двор Наумова, перейдя через руки многих владельцев (Грекулова, Зельмана и др.), ныне составляет (с 13 мая 1893 года) собственность старушки Атаманчиковой. Она отдает два флигеля в наем и на скудный доход поддерживает существование свое, овдовевшей дочери и трех малюток-внучат, занимая с ними третий, самый старый флигель посреди двора. В эгом флигеле старушка указывает просторную комнату к востоку, против окон которой растут три старых акации; хозяйка уверяет, что эту комнату занимал по преданию Пушкин. Маленькие школьники — внучата хозяйки — с неослабевающиви интересом занимаются чтением дешевеньких изданий Пушкина вслух, в присутствии бабушки, объясняющей им все до мелочей с большим искусством и обнаруживающей дар слова, достойный памяти Родионовны—няни поэта.
67. Дом гражданского губернатора Константина Антоновича Катакази. Первым губернатором, как известно, был Скарлат Дмитриевич Стурдза (до 17 июля 1813 года), вторым — инженер генерал-майор Гартинг (до 1818 года). Катакази был вазначен уже после учреждения наместничества, на основании составленного Бахметевым и Высочайше утвержденного «Устава об образовании Бессарабской области». У Катакази был и другой дом (81) в нижнем городе, на углу Ботезатовской и Контантиновской улиц, сохранввшийся и доныне. Приема у Катавази никогда не было, так что Пушкин мог встречать его только в митрополии, в большие праздники у Инзова и у Орлова, а судя по стихотворевию «Джок» — и на вечерах у Варфоломея; в особенные торжественые дни—в клубе, но конечно не у него самого. Сестра его Тарсиса, дева лет сорока, не красивая, но образованая и прозванная Кишиневская Жанлис, посещала одна Крупенского (Липранди). Сам Катакази был женат на сестре вожака етеристов князя Александра Ипсиланти, но вероятно не был посвящен в тайны предприятия; по крайней мере отъезд трех Братьев Ипсиланти в Молдавию для кишиневцев был большою неожиданностью. Вот как рассказывает об этом Вельтман.
«В исходе 1820 года и в начале 1821 года зима в Кишиневе проходила очень весело; помнится мне, что в этот год не было зимы; зимние месяцы были похожи па прекрасное сентябрьское время; не выпало ни одного клока снегу.
Наше время проходило на вечерах и балах, часто у наместника, куда собиралась вся знать кишиневская, а иногда в доме Александра Кантакузина (82) и других. (В одном квартале с домом Ал. Кантакузина находились при Пушкине дома: Танского—83, генерала А. Я. Черемисинова — 84 и деревянный с флигелем князя Георгия Кантакузина — 85, а через площадь, к выезду на Скуляны, дома: Мило —86 и Белуги-Кохановского—87)
В то время в Валахии возникло восстание. В голове его был нектоФ Владимиреско, командовавший во время войны русских с турками отрядом пандур. Но целью этого восстания было избавить себя от ига фанариотов, назначаемых в князья Молдавии и Валахии. Покуда Порта назначала Каллимахи господарем Валахии по смерти Александра Суццо, Владимиреско овладел уже всею Малою Валахией. Никто не предвидел, чтобы эта искра была началом етерии (товарищества во имя спасения Греции) и имела бы те последствия, которые совершились на глазах наших.
Однажды, на балу у наместника, явилось новое лицо — статный русский кавалерийский генерал; правая рука его была обшита и перевязана черным платком. Я бы не обратил особенного на него внимания, если бы он не стал танцевать мазурки. «Кто это такой?», спросил я. «Князь Алевсандр Ипсиланти», отвечали мне. Этим ответом и удовольствовался.
Через несколько дней бал у князя Кантакузина и я опять не предвидел, что в толпе беззаботных есть два исторических лица, замышляющих новую будущность Греции. Прислонившись в столику, стоял задумчиво худощавый адъютант. Не помню, познакомили меня с ним, или случайно завязался у нас разговор, но мы обменялись несколькими словами; помню только, что я удивлялся его худобе. Сжатое его лицо, нос несколько орлиный, голова почти лысая, не более фута в плечах, ноги — как флейты, в рейтузах с лампасами, нисколько не предвещали будущего полководца Греции Дмитрия Ипсиланти.
От разговора с ним я был отвлечен несколькими женскими голосами, которые повторяли: „Monsieur le prince, dansez done! Dansez, Nicolas, au moins une seule figure» Но гвардеец отказывался. С трудом, однако-же, уговорили его пройти один только круг. Он уступил просьбам; прекрасный собою, ловкий мужчина превзошел всех поляков в ловкости танцовать мазурку. «Кто это?» спросил я у княгини Кантакузиной. «C’est le prince Nicolas Ipsylanti! Ah, comme il danse!»
Три брата Ипсиланти приехали в отпуск; не прошло нескольких дней, как мы узнали, что все трое они тайно уехали уже в Молдавию. Вскоре намерения их обяснились». 22-го февраля 1821 года князь Ал. Ипсиланти начал военные действия переправой чрез Прут в Молдавию. Изданное им воззвание „сильно подействовало на греков и в гравицах России; из Одессы шли и ехали толпы греков чрез Тирасполь, Бендеры и Кишинев в Молдавию. Везде снабжались они тайно агентами етерии средствами в пути; они тогда уже пели славную песню новых греков. С весной границы наши огласились уже оружием боя етеристов с турками. Последовавшее передвижение войск шестого корпуса для подкрепления границ на всякий случай внушало тогда какое-то участис к грекам и жслание войны с турками.
В Кишиневе на все лады обсуждали предприятие Ипсиланти. „Многие—пишет Бартенев — не могли поверить, чтоб из этого что-нибудь вышло. Пушкин один из первых понял и оценил всю важность начального греческого движения». В дневнике Пушкина под 2 апреля было отмечено: „вечер провел у П. Д. Прелестная гречанка. — Говорили об А. Ипсиланти; между пятью Греками я один говорил как Грек. Все отчаивались в успехе предприятия етерии; я твердо уверен, что Греция восторжествует и что 2,500,000 турок оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла…» Но печальные последствия восстания вскоре сказались. Бессарабию стали наводнять выходцы.
Кишинев за два или за три месяца стал не тем городом. «Народ кишел уже в нем — пишет Вельтман. Вместо двенадцати тысяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырех квадратных верст. Он походил уже более на стечение народа на местный праздник, где приезжие поселяются кое-как, целые семьи живут в одной комнате. Но не один Кишинев наполнился выходцами из Молдавии и Валахии; население всей Бессорабии по крайней мере удвоилось. Кишинев быль в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств; в каждом дому, имеющем две—три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс или Букареста. Тут был проездом в Италию и господарь Молдавии Михаил Суццо; тут поселилось семейство его, в котором блистала красотой Ралу Суццо; тут была фамилия Маврокордато, посреди которой расцветала Мария, последняя представительница на земле классической красоты женщины. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что Еллада, в виде божественной девы, появилась на землю, чтобы вскоре исчезнуть на веки. Прежде было приятно жить в Кишиневе, но прежде были будни пред настоящим временем. Вдруг стало весело даже до утомления. Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных магазинов обратились в рамы женских головок; черные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли, так как на портретах была постоянная улыбка.
На каждом углу загорался разговор о делах греческих: участие было необыкновевное. Новости разносились как электрическая искра по всему греческому миру Кишинева. Чалмы князей и кочулы бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, все служило пищей длн толков и преувеличений. Однако же, во всяком случае, мнение должно было разделиться на двое; одни радовались успехам греков, другие проклинали греков, нарушивших тучную жизнь бояр в княжествах. Молдаване вообще желали успеха туркам и порадовались от души, когда фанариотам резали головы, ибо в каждом видели будущих господарей своих».
Подробвее о знатных выходцах из Молдавии говорит Липранди.
«…С половины марта — пишет он — начался наплыв буженаров (так называют в Молдавии выходцев), и наплыв этот более и более усиливался. Начну с князей.
Один из первых был господарь Молдавии, Князь Михаил Суцо, который, не будучи в тайнах гетеристов, был озадачен внезапным появлением Ипсиланти и Кантакузина (Георгия) в Яссах, особенно, когда увидел, чго не только вся его стража, тогда состоявшая из Арнаутов, но и все приближенные к нему фанариоты взяли сторону гетеристов. Положение его сделалось затруднительным, и хотя Ипсиланти оставил его на княжении, но едва он выступил из Ясс, как господарь со всем семейством своим поспешил в Скулянский карантин, а за ним началась и эмиграция, кто куда попал, в Австрию и к нам. Князь Михаил не долго оставался в Кишиневе и отправился далее в Россию (а потом—в Италию; в 30-х годах был в Петербурге посланником Греческого королевства, каковой пост потом занял сын его); но отец его Бей-Заде Георгий (Григорий? ср. нашу статью, «Восточные святители» § 15), с женой и дочерью Ралу, о которой говорится выше, основались в Кишиневе. К нему примкнул сын Константин, женившийся в Валахии на Раковице, принадлежавшей к одвой из древнейших валашских фамилий, сохранившей еще довольно большое состояние. За сим из Константинополя чрез Одессу бежал старший его сын Николай, бывший поверенный в делах брата своего господаря Молдавии Михаила. Николай женат был на дочери валашского вистиара (министра финансов) Пичулеско, Роксандре, лет 27-ми, в полном смысле прекрасной и очень образованной, да и сам Николай, а равно и Константин, были люди очень умные, в особенности Николай, хорошо обладавший фравцузским языком. У Николая Суццо бывали в Кишинев балы и вечеринки. Жена Константина, красивейшего из братьев после Михаила (за красоту назначенного господарем), было дурна собою, и не посещала обществ. Наконец, четвертый брат, Иван Суццо, каммергер герцога Луккского в европейском платье, добрый малый, с европейским образованием, но проще всех своих братьев. Затем постельник Иван Скина, человек очень начитанный и владевший совершенно французским языком, женатый на сестре князя Михаила, Севастице, очень милой, но уже черезчур скромной, как она в известном джоке и обозначена. Из Суцов, родственников помянутым, был еще Алеко. Вслед за Суцами приехал в Кишинев князь Караджи, сын бывшего валахского господаря. Он был женат на дочери также прибывшего в Кишинев из Ковставтинополя драгомана, грека Россети, прозваннаго Бибика, фаворита (как и Михаил Суцо) всемогущаго Галет-Эфенди (визиря); у этого Россети была еще дочь, девица (,,которой ножки, как все были уверены, будто воспеты в первой главе Онегина» — Бартенев) К княжеским фамилиям должно присоединить еще тогда прибывших в Кишинев двух из молдавских Морузи, с матерью и тремя сестрами, довольно изрядными, но не блиставшими образованием.
За сим, из бояр первое место но значению и богатству занимал Георгий Рознован, вистиар во время войны 1806—1812 г.г., с двумя сыновьями Николаем и Алекой. У Рознована бывали балы и вечеринки. Далее, старик постельник Димитраки Статаки, скоро взявший на откуп все Бессарабские почты. Два постельника Плагино; у одного была очень пригожая жена, родом волошка, за которой многие ухаживали. Пушкин находил, что она была схожа с рублевиками Елисаветы Петровны. Другой Плагино, женатый на княжне Морузи, довольно образованной, но и довольнво не пригожей и главное— под сорок лет. Мадам Богдан, женщина за 50 лет, из коих, конечно, половину употребила в свою пользу. Она была вдова Гетмана (Хатмана) Богдана (коренного молдавского бояра), казненного (по наветам фанариотов) князем Морузи вместе с его логофетом Кузою, дедом бывшего потом князем придунайских соединенных господарств Иоанна—Александра. У Богданши было два сына, но они жили то в Австрии, то в княжествах; дочь же ее Мариола (Марика) была в Кишиневе с мужем своим Тодором Балшем, коего история с А. С. Пушкиным известна. Богданша жила открыто; у нее часто бывали танцевальные вечера изысканного общества; не многие туземные кишиневские лица были приняты.
Эту историю Пушкина с ворником Молдавии, роковым образом ухудшившую положение поэта в Кишиневе, Бартенев передает со слов друга Пушкина того времени, квартермистра Владимира Петровича Горчакова, так: «Между кишиневскими помещиками—молдаванами, с которыми вел знакомство Пушкин, был некто Балш. Жена его, еще довольно молодая женщина, веэде вывозила о собою, несмотря на ранний возраст, девочку — дочь дет 13. Пушкин за нею ухаживал. Досадно ли это было матери, или может быть, она сама желала слышать любовности Пушкина, только она за что-то рассердилась и стала к нему придираться. Тогда в обществе много говорили о какой-то ссоре двух молдаван: им следовало драться, но они не дрались. „Чего от них требовать! заметил как-то Липранди, у них в обычае нанять несколько человек, да их руками отдубасить противника». Пушкина очень эабавлял такой легкий способ отмщения. Вскоре, у кого-то на вечере, в разговоре с женою Балша, он сказал: ,,Экая тоска, хоть-бы кто нанял подраться за себя!» Молдаванка вспыхнула. «Да вы деритесь лучше за себя», возразила она. — Да с кем же? — ,,Вот хоть с Старовым; вы с ним, кажется, не очень хорошо окончили». (Эта дуэль не удалаоь вследствие метели: противники два раза принимались стрелять, и стало быть вышло четыре промаха. Потом помирили их, но в городе о каждом из них раэнеслись двусмысленные слухи). На это Пушкин отвечал, что если бы на ее месте был ее муж, то он сумел бы поговорить с ним; потому ничего не остается больше делать, как узнать, так ли и он думает. Прямо от нее Пушкин идет к карточному столу, за которым сидел Балш, вызывает его и объясняет в чем дело. Балш пошел распросить жену, но та ему отвечала, что Пушкин наговорил ей дерзостей. «Как же вы требуете от меня удовлетворения, а сами позволяете себе оскорблять мою жену», сказал возвратившийся Балш. Слова эти были произнесены о таким высокомерием, что Пушкпн не вытерпел, тут же схватил подсвечник и замахнулся им на Балша. Подоспевший П. С. Алексеев удержал его. Разумеется, суматоха вышла страшная, и противников кое-как развели. На другой день, по настоянию Крупенского и П. С. Пущина (который командовал тогда дивизиий за отъездом Орлова), Балш согласился извиниться перед Пушкиным, который нарочно для того пришел к Крупенскому. Но каково же было Пушкину, когда к нему явился, в длинных одеждах своих, тяжелый молдаванин, и вместо извиненя начал: «Меня упросили извиниться перед вами. Какого извинения вам нужно?» Не говоря ни слова, Пушкин дал ему пощечину, и вслед за тем вынул пистолет. Прямо от Крупенского Пушкин пошел на квартиру к Пущину, где его видел В. П. Горчаков, бледного как полотно и улыбающегося. Инзов посадил его под арест на две недели; чем дело кончилось не знаем. Дуэли не было, но еще долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия, на улицах вынимал пиотолет и с хохотом показывал его встречным знакомым».—Относя «возмутительную историю Пушкина с Балшем» к февралю 1822 года, Бартенев замечает: ,,…в продолжение каких-нибудь трех—четырех месяцев, три истории, три вспышки необузданного, африканского нрава: в исходе 1821 года поединок с 3. из-за карт (см. замечание к пункту 72), в январе 1822-го о Старовым из-за светских отношений (см. замечание к пункту 12). Можно себе представить, сколько в Кишиневе пошло толков, как возмущались все степенные люди поведением молодого человека, каково было кишиневским молдаванам после оскорбления, нанесенного им в лице Балша. Пушкина стали бояться в городе».—Бартенев наэывает историю Пушкина с Балшем «возмутительной»; но он наэвал бы ее и худшпм эпитетом, если бы знал, что Балш был не «некто» и не «кишиневский помещик, молдаванин, тяжелый, в длиных одеждах», а передовой человек своего времени в княжествах; не потому, что он был великим ворником Молдавии, а потому, что по прошествии смут етерии ему принадлежала инициатива и руководящая роль в деле возбуждѳнии перед Портой ходатайства о назначении в Молдавию князя из коренных бояр (как было 150 лет перед тем), а не из фанариотов. Молдавские бояре „велицы» оценили идею Балша и единогласно возложили на него полномочия по ведению этого дела, вполне оцененного и исгорией. См. Cronicele Romaniei de Michail Kogalnicanu. Bucuresci 1874. Tomu III. pag. 434. Devlet-Efendi. — В виду этого приходится заключить, что Инзов вполне прав был, посадив поэта за его юродство под арест на две недели. Балшу же естественно было посмотреть на случившееся как на вспышку необузданного, африканского нрава Пушкина—т. е. согласно с взглядами его биографа (Бартенева). Или, быть может, было бы благороднее со стороны Балша поставить юного, невыдержанного в жизни поэта под пулю? Вельтман по-видимому склонен так думать, когда излагает этот эпизод словно школьную экзерцицию в гладком иэложении мыслей. Он пишет:„Пушкин так был пылок и раздражителен от каждего неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шутки, сказала ему дерзость. ,,Вы должны отвечать за дерзость жены своей», сказал он ее мужу. Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей. «Так я вас заставлю знать честь и отвечать за нее», вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим все и закончилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина; но время скоро излечило рожу на лице Тодора Балша, и он теперь эаседает в диване князя Молдавии».
Постельннк Яковаки-Ризо, умный и ученый фанариот, один из главных деятелей заговора гетеристов, впоследствии издавший на французском языке историю этого события. У него была старая жена и дочь за греком Мано, довольно образованным, который, овдовев, потом женился на Пульхерии Варфоломей.
Петраки Маврогени, хотя и Бессарабский помещик и имевший дом в Кишиневе (88), но до сего времени живший в Яссах, был женат на дочери старейшего молдавского бояра Георгия Стурдзы, отца Михайла Стурдзы, в 1831 году господаря Молдавии, после поселившегося в Париже.
Трое Балшей — молдавские выходцы: Тодор Балш, уже упомянутый, Иорго Балш, брат Тодора, также ворник княжества, муж известной Аники Филипеско, любимицы Милородовича и которой приписывается неудача Журжевского штурма и Алеко Балш, прозванный—длинный (лонгу), сын вышеприведенного Иорго и сестры бывшего в 1831 году господаря Михалаки Стурдзы; в то время она была уже во втором браке за Петраки Маврогени.
Из Валахских бояр, главные были: д. с. с. Варлам, которого дочь была за С.-Петербургским почт—директором К. Я. Булгаковым; из молодежи были Константин Гика, младший брат Валахского господаря Георгия Гики, Хереско (из этого рода происходил русский писатель Херасков), женатый на дочери одного из первых бояр Валахии Бана Бальяно. Потом двое молдавских Гиков, из коих один, дружный с Липранди Иорго (Ага Георгий), очень образованный, воспитывавшийся в Париже, человек молодой, непроч от какого-либо скандальчика и многие другие.
Наплыв этих более или менее достаточных лиц дал Кишиневу совершенно другую, более разнообразную жизнь. Танцевальные вечера у Варфоломея продолжались, но на них бывало мало из прибывших, и все шло по старому; только у Крупенского вечера сделались многочисленнее, разнообразнее: было более охотников играть в карты. Из прибывших же, можно сказать, жила открыто более других только Богданша, у которой каждую неделю были три приемных вечера; правда, два из них были очень скучные и не всех могли занимать, но один был танцевальный, и когда она заняла квартиру (70) М. Ф. Орлова (начальника дивизии, перемещенного по службе), то и довольно многолюдный. На этих вечерах, многих из общества Варфоломея не встречалось, так напр. они были недоступны для Прункулей и им подобных.
Гораздо оживленнее был дом Маврогени (88); он был открыт с утра до вечера; на обед всегда собиралось много; карточная игра была в больших размерах, а если к вечеру съезжались молодые дамы, то независимо от назначенного дня, тотчас начинались танцы; иногда вместо фортепиано отыскивали НЕСКОЛЬКО цыганских виртуозов. Роксандра Суцо, с своей милой десятилетней дочкой Лизой (впоследствии бывшей за князем Гикой), Ирена и Елена, дочери Маврогени, были всегда на лицо; позлвдняя впоследствии была замужем за Кортаци, английским консулом в Одессе».
Более многолюдные мужские вечера были у Липранди, потому что, независимо от своих —военных, все выходцы: бояре и князья бывали у него как у лица, поставленного с ними в сношения (на время жительства в России).
„Других постоянных собраний для танцев не было, исключая еще касино (в котором, по Вельтману, победа была всегда на стороне военных). Семейные танцевальные вечера бывали у Кохановского (87). У старика Рознована каждый вечер можно было застать несколько ломберных столов, но не иначе, как для комерческой игры и сытного ужина. У старшего сына его Николая, не игравшего в карты, собирались политики и устроители волокитств, занимаясь передачей слухов ит.п.
„Эта новая общественная сфера, мне казалось, пробудила Пушкина; с одной стороны она предоставляла более, так сказать, разгулу его живому характеру, страстно преданному всевозможным наслаждениям; с другой, он встречал в никоторых фанариотах, как например, в Ризо, в Скине —людей с глубокими и серьезными познаниями. В особенности ему нравился последний, как потому, что он был едва ли не вдвое моложе Ризо, так и потому, что он не прочь был иногда серьезное перемешать с болтовней (чем отличался и Михалаки Стурода, впоследствии господарь, часто приезжавший из Одессы к сестре своей Маврогени), что очень нравилось Пушкину; сверх того Скина обладал огромной памятью и мог читать наизусть целые французские поэмы. Однажды, завернув к Пушкину, я его застал отвечающим Скине на записку, при которой этот прислал ему „Les methamorphoses d’Apulee». На вопрос мой: что ему вздумалось брать эту книгу? он отвечал, что давно желал видеть французский перевод, и потом опять дал мне слово не брать прямо от Греков книг. Во всяком случае я заметил большую перемену в Пушкине, в эту вторую половину пребывания его в Кишиневе…
Из-за книг выходили с Греками у Пушкина неприятности. „Однажды—передает Липранди — с кем то из них в разговоре упомянуто было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать ему, Тот с удивлением спросил его: „Как! вы поэт и не знаете об этой книге!?»1 Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать возравившего на дуэль. Решено было так: когда книга была ему доставлена, то он, при записке, возвратил оную, сказав, что эту он знает и пр. После сего мы и условились: если что нужно будет, а у меня того не окажется, то я доставать буду на свое имя».
В заключение должно сказать о пресловутой Калипсе Полихрони. Она бежала из Константинополя (вместе с матерью своею Полихронией и другими Греками) вначале в Одессу и около половивы 1821 года поселилась в Кишиневе. Она была чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью; длинное сухое лицо, всегда, по обычаю некоторых мест Турции, нарумяненное; огромный нос как бы сверху до низу разделял ее лицо; густые и длинные волосы, с огромными огненными глазами, которым она еще более придавала сладострастия употреблением «сурьме». Мать ее, вдова, была очень бедная женщина, жена логофета и потерявшая все, что имела, во врема бегства; она нанимала две маленькие комнаты (89) около Мило.
Пушкин тогда восхищался Байроном, а про Калипсо ходили слухи, будто она когда-то всгретилась с знаменитым лордом и впервые познала любовь в его обятиях» (Бартенев).
В обществах Калипсо мало показывалась, но дома радушно принимала. Пела она с гитарой на восточный тон, в нос; это очень забавляло Пушкина, в особенности турецкие сладострастные, заунывные песни, с аккомпаниментом глаз, а иногда жестов. Там (в Кишиневе) была еще певица в таком же роде, но несравненно красивее и моложе, дочь Ясского доктора Грека Самуркаша, Роксандра». (Из ее песен особенно нравилась Вельтману «Прин аморулуй дулчяцы».)
Что сказать об общем типе собственно молдавских выходцев времени Пушкина? Кажется не ошибемся, если скажем, что общий тип был далеко не привлекателен в культурном отношении. Почти без прикрасы можно было сказать об этих важных боярах словами Липранди: «один с большою бородою, другой с длинным усом», — как охарактеризованы сыновья Богданесы. Кав бы вариируя мысль Липранди, Вельтман стихами так описывает образ бояра:
Он важен, важен, очень важен:
Усы в три дюйма, и седа
Его в два локтя борода,
Янтарь в аршин, чубук в пять сажень.
Он важен, важен, очень важен.
Приведем кстати картину быта бояра времен Пушкина, мастерски набросанную Вельтманом же. ,,Вся почти дворня каждого бояра состоит из одних цыган (издавна составляющих собственность, рабов боярских); музыканты, повара и служанки из цыган. Служанки в лучших домах ходят босиком, повара — чернее вымазанных смолою чумаков, и если вы сильно будете брезгливы, то не смотрите, как готовится обед в кухне, которая похожа на отделение ада: это страшно! Их кормят одной мамалыгой или мукой кукурузной, сваренной в котле густо, как саламата. Ком мамалыги вываливают на грязный стол, разрезывают на части и раздают; кто опоздал взять свою часть, тот имеет право голодать до вечера. По праздникам прибавляют к обеду их гнилой брынзы (творог овечий). Зато не нужно мыть тарелок во время обедов боярских: эти несчастные оближут их чисто-на-чисто. Я не говорю, чтоб это было так по большей части; по одному, по нескольким примерам я бы даже не упомянул об этом; но это — просто обычай в Бессарабии, в Молдавии и Валахии во всяком доме, где огромная дворня цыган составляет прислугу. Страсть к наружному великолепию и вместе отвратительную неопрятность de la maison culinaire невозможно достаточно сблизить в воображевии.
Войдите в великолепный дом, который не стыдно было бы перенести на площадь какой угодно из европейских столиц. Вы пройдете переднюю, полную арнаутов (их особенно много перешло в Бессарабию); перед вами приподнимут полость сукна, составляющую занавеску дверей, пройдете часто огромную залу, в которой можно сделать развод; перед вами вправо или влево поднимут опять какую-нибудь красную суконную занавесь, и вы вступите в диванную; тут застанете вы или хозяйку, разряженную по моде европейской, но сверх платья в какой-нибудь кацавейке —фермеле — без рукавов, шитой золотом, или застанете хозяина, про которого невольво скажете:… (следуют вышеприведенные стихи). Вас сажают на диван; арнаут, в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, в кованной из серебра позолоченной броне, в чалме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкою шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный мундштук, — подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время босая, неопрятная цыганочка, с всклокоченными волосами, подает на подносе дульчецу и воду в стакане. А потом опять пышный арнаут или нищая цыганка подносить кафяоа (кофе) в крошечной фарфоровой чашечке, без ручки, подле которой на подносе стоить чашечка серебрянная, в которую вставляется чашечка с кофе и подается вам. Турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, подается без отстоя». Таков был прием при Пушкине, как у местных, кишиневских молдаван, так и у эмигрантов. По крайней мере известно, что члены Верховного Совета, кроме члена от Короны (т. е. из русских), все носили одежду старо-молдавского покроя и принимали гостей, сидя на диване и подложив под себя по-турецки ноги.
68. Девичий пансион Майе. Такой же пансион мадам Майе держала раньше в Одессе. В Кишиневе при ней жила замужняя племянница. Пушкин заходил к ним изредко с знакомыми (Липранди).
69. Дом Майе, в котором помещался кабинет начальника 16-й дивизии генерал-майора Михаила Феодоровича Орлова.
70. Его квартира (а по отъезде Орлова в начале 1822 года квартира молдавской эмигрантки Богданши).—Здесь кстати будет сказать о военном обществе Кишинева времен жизни в нем Пушкина и прежде всего о самом Михаиле Феодоровиче. ,,Орлов славен — пишет Бартенев — своим горячим участием ко всему, что выступает из обыкновенной, будничной жизни. Страсть к просвещению (он занимался в Киеве делами библейского общества), страсть к словесности и наук (он участвовал в Арзамасском обществе под именем Рейна и писал сочинение о финансах), страсть к искусствам (он был основателем московской школы живописи и ваяния), наконец в высокой политической деятельности, всю жизнь волновали эту благородную душу. Под Аустерлицем он храбро дрался, и получив знак отличия в одно время с вестью о том, что бой проигран, горько заплакал. Участник 1812 года и заграничных войн, он был близко известен государю, первый из русских вступил в Париж и договаривался о сдаче его, которую потом описал в особой записке». Около 1820 года была самая живая пора его деятельности; его не даром называли цветом русских генералов. Он заботился о распространении грамотности между солдатами (основал в Кишинев дивизионную ланкастерскую школу), старался смягчить грубые отношение к подчнненным, за что вскоре и пострадал. В Кишиневе он построил манеж и в новый 1822 год дал в нем большой завтрак, на котором, сверх обыкновения, были угощены, тут же, в одних стенах с начальством, все нижние чины. Этот праздник надолго остался в памяти сослуживцев Орлова и прочих очеввдцев.— По приезде в Кишинев, Пушкин уже застал там Михаила Феодоровнча. Они сошлись вероятно в Киеве или в Петербурге, где Пушкин был довольно близко знаком с его родным братом, князем Алексеем Феодоровичем, которому и написал в 1818 году известное послание:
О ты, который сочетал
С душею пылкой, откровенной,
Любезность, разум просвещенный и пр.
Раевские, с которыми Пушкин ездил летом 1820 года на Кавказ и в Крым, без сомнения поручали Пушкина вниманию Орлова; но он и сам рад был знакомству с поэтом. На первых порах знакомства, Пушкин писал о нем к Чадаеву : «Le seul home que j’aie vu qu est heureux a force de vanite», что, к сожалению, говорят , до некоторой степени верно; но этот отзыв не помешал впоследствии Пушкину ценить и любить Орлова. Они твснее сблизились в 1821 г., когда Орлов женился на старшей дочери Раевского, Екатерине Николаевне, любезной и высокоуважаемой приятельнице Пушкина по Юрзуфу. Орлов занимал в новом Кишиневе два большие дома; у него, как у начальника, постоянно собирались военные люди, и кроме того приезжали и гащивали Раевские, Давыдовы и родной брат его Феодор Феодороввч, великан ростом, георгиевсвой кавалер, без ноги по колено, которого, как кажется, Пушкин хотел потом изобразить героем романа из русских нравов. Пушкин целые дни проводил в умном и любезном обществе, собиравшемся у М. Ф. Орлова, и там-то за генеральскими обедами, слуги обносили его блюдами, на что он так забавно жалуегся. Беседа шла на Французском языке. «Пиши мне по русски — требует Пушкин от брата — в письме от 27 июня 1821 г,—потому что, слава Богу, с моими… друзьями я скоро позабуду русскую азбуку». Свобода обращения, смелость, а иногда резкость ответов, небрежный наряд Пушкина, столь противоположный военной форме, которая так строго наблюдалась и наблюдается в полках, все это не раз смущало некоторых посетителей Орлова. Одважды кто-то заметил генералу, как он может терпеть, что у него ва диванах валяется мальчишка в шароварах. Орлов только улыбался на такие речи; но один раз, полушутя, он сказал Пушкину, пародируя басню Дмитриева (Башмак мерка равенства)
Твои, мои права одни,
Да мой сапог тебе не в пору.
„Эка важность, сапоги! возразил Пушкин; если меряться, так у слона больше всех сапоги». Этим все и кончилось, и размолвки между ними никогда не было.
О бригадном командире г. м. Павле Сергеевиче Пущине и его масонстве см. замечание к пункту 2. При Орлове же состояли: штабс-офицер Ив. Петр. Липранди, вначале пребывания Пушкина подполковнику а потом — полковник; поручик 31-го егерского полка, адютант Орлова Ив. Мат. Друганов (см. 10); штабс-капитан, а потом капитан Охотского полка Вас. Фед. Калакуцкий (см. 39); капитан 32-го егерского полка, старший дивнзионный адъютант 16-й дивизии. Кон. Алек. Охотников и прапорщик геверального штаба, главный квартермистр Влад. Петр. Горчаков. О съемочной военной комииссии см. замечание к пункту 72. Из офицеров съемочной коммиссии наиболе был популярен Александр Фомичь Вельтман. «Все офицеры генерального штаба того времени — пишет Липранди — составляли как бы одно общество, конечно с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых. Наконец он умел среди всех отличить А. Ф. Вельтмана, любимого и уважаемого всеми оттенками. Хотя он и не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцевальных вечеров Варфоломея; но он один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина, а потому беседы с ним были иного рода. Он безусловно не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не не нравилось Александру Сергеевичу Пушкину, несмотря на неограниченное его самолюбие. Вельтман делал это хладнокровно, не так как В. Ф. Раевский. В этих случаях Пушкин был неподражаем; он завязывал с ними спор, иногда очень горячий, в особенности с последним, с видимым желанием удовлетворить своей любознательности, и тут строптивость его характера совершенно стушевывалась» Охотникова Пушкин очень уважал, как знатока классиков, весьма образованного и начитанного человека. При встрече с ним Пушкин всегда приветствовал его по обычаю римскмх ораторов, словами: «Pere conscript!». 0 себе самом и своем знакомстве с Пушкиным И. П. Липранди пишет: „В первую половину пребывавия Пушкина в Кишиневе, я не посещал ни Крупенского, ни Варфоломея, потому что в карты не играл, а еще менее танцевал, и при всем этом мне оба дома не нравились, первый уже потому, что Крупенский разыгрывал роль какого-то вельможи, а жена его, при всей любезности своей, действительно думала представлять себя потомкой Комненов, которым впрочем и самим едва ли было чем либо гордиться, Варфоломей мог доставлять удовольствие только танцующей молодежи, которую он созывал для рассеяния своей Пульхерицы, а сам, поджавши ноги, с трубкой в зубах, с наслаждением смотрел на плясунов, не будучи в состоянии об чем бы то ни было обменяться речью. В дамском обществе я в этот период времени видал Пушкина только у Земфираки, которых я иногда посещал и где стречал Стамо, Стамати, двух братьев Руссо. Я ограничивался Русским военным обществом, генералов: Орлова, Бологовского и Черемисинова, старых своих соратников, князьями Георгием и Александром Кантакузинами, где встречался с Пушкиным и наконец другими. Из оседлых же жителей я посещал одного д. с. с. Федора Ивановича Недобу, нашего дипломатическаго агента, вместе с Родофиникиным и архиереем Леонтием (из Греков же) игравшего знаменательную роль в Сербии, во время побега из оной Георгия Черного в Австрию. Три-четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома. Постоянными посетителями были у меня: Охотников; майор, начальник дивизионной ланкастерской школы, В. Ф. Раевский; Камчатскаго полка майор М. А. Яновский, замечательный оригинал, не лишенный интереса по своим похождениям в плену у Французов после Аустерлицкого сражения; гевальдигер, 16-й дивизии поручик Таушев, очень образованный молодой человек из Казанского университета; майор Гаевсвий, переведенный из гвардии в Селенгинский полк, вследствие истории Семеновского полка и здесь назначенный Орловым начальником учебного баталиона; из офицеров генерального штаба преимущественно бывали А. Ф. Вельтман, В. П. Горчаков и некоторые другие. Пушкин редко оставался до конца вечера, особенно во вторую половину его пребывавия. Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией. Я тем боле убеждаюсь в ѳтом, что Пушкин неоднократно, после таких споров, на другой или на третий день, брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как вспылчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в Русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть — свое и т. п. Так-как предмет этот вовсе меня не занимал, то я и не обращал никакого внимания на эти диспуты, неоднократно возобновлявшиеся. Остроты с обеих сторон сыпались».
71. Дом д. с. с. Недобы, Председателя Гражданской Палаты. Недоба, Феодор Иванович, русский дипломатический агент, вместе с Родофиникиным и архиереем Леонтием (Лампровичем), некогда сыграл знаменательную роль в Сербии, во время побега оттуда Георгия Черного в Австрию. Липранди, познакомившийся с Недобой прежде всех по рекомендации сослуживца, потом коменданта в Мобеже, подполвовника Бароци, на сестре коего Недоба был женат, ввел было Пушкина к нему, но хозяин ему не понравился.
72. Квартира начальника съемки полковника Корниловича. Этому Корниловичу Кишинев и вся Бессарабия обязаны прелестным, идеально точным выполнением работ по съемке планов новоприобретенного края, доныне приводящим в восгорг наших профессиональных инженеров и землемеров-таксаторов. Под общим начальством полковника Корниловича на съемке бывали и подолгу проживали в Кишиневе офицеры генерального штаба: двоюродные братья Полторацкие-— Алексей Павлович и Михаил Александроввч (с первым Пушкин был очень близок), Валерий Тимофеевич Кек, Александр Фомич Вельтман, два фон-дер Ховена, Лучинин, Роговской, Фонтон-де Верайон (впоследствии бессарабский губернатор), Гасферт, барон Ливен в два Зубовых из коих с одним Пушкин имел столкновение, разрешившееся дуэлью.
Столкновение вышло из-за карт. ,,Тогда игра была в большом ходу и особливо в полках—пишет Бартенев. Пушкин не хотел отстать от других: всякая быстрая перемена, всякая отвага были ему по душе; он пристрастился к азартныи играм в во всю жизнь потом не мог отстать от этой страсти…. Играли обыкновенно в штос, в экарте, но всего чаще в банк. Однажды Пушкину случилось играть с одним иэ братьев 3. (Зубовых), офицером генерального штаба. Он заметил, что 3. играет наверное и, проиграв ему, по окончании игры, очень равнодушно и со смехом стал говорить другим участннкам игры, что ведь нельзя же платить такого рода проигрыши. Слова эти конечно разнеслись, вышло объяснение, и 3. вызвал Пушкина драться … Противники отправились на так называемую Малину, виноградник за Кишиневом. Пушкина не легко было испугать; он был храбр от природы и старался воопитывать в себе это чувство. Не даром он записал для себя одно иэ наставлений кн. Потемкина Н. И. Раевскому: „Старайся испытать не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем». Еще в лицее учился он стрельбе в цель, и в стенах кишиневской комнаты своей насаживал пулю на пулю… По свидетельству многих и в том числе В. И. Горчакова, бывшего тогда в Кишиневе, на поединок с 3. Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. 3. стрелял первый и не попал. „Довольны вы?», спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Вместо того чтобы требовать выстрела 3. бросился с объятиями. ,,Это лишнее» заметил ему Пушкин, и не стреляя удалился. —Поединок с 3., равумеется, точас сделался предметом общего говора, и поведение Пушкина чрезвычайно подняло его в общѳм мнении»..
73—74. См. замечание к пункту 38.
75—78. См. замечавие к пункту 41.
79. Дом Этнера. Этнер, артиллерийский капитан в отставке, женившись, оставил всякие технические работы; жена его открыла женский пансион в Бендерах. Б 1825-м году Этнер был назначен Областным Архитектором и переехал в Кишинев; пансион был тоже перенесен. Липранди, представивший в том же году граФу Воронцову проект об очищении р. Быка и получивший разрешение приступить к работам, нашел в Этнере весьма способного труженника. Тогда-то была уничтожена плотина, образующая огромный став (пруд) на земле Прункула, где поставлены были им две мельницы. По справкам оказалось, что на образование такого става, который был вреден для города, Прункул не имел права. Этот-то став, из окон комнаты Пушкгна (в доме Наместника) представлялся звачительным озером и дополнял красоту вида местности.
80. См. замечание к пункту 66.
81. См. замечание к пункту 67.
82. Каменный дом, один из лучших при Пушкине, камер-юнкера князя Александра Матвеевича Кантакузина. ,,Он был женат на Елене Михайловне, урожденной Дараган, отличавшейся хлебосольством и утонченным, непринужденным гостеприимством. Конечно, здесь нельзя было встретить того же попури общества, что у Крупенского и Варфоломея. Здесь бывали М. Ф. Орлов, В. П. Бологовской, Пущин (Павел Сергьевич), Шульман и некоторые другие, а из молдаван один Стурдза, Иван Михайлович, помещик Новоселицы и предводитель, человек безукоризненный, с совершенно Европейским образованием. Здесь бывали Катакази и все Ипсиланти. Гувернер при трех сыновьях князя, француз Рипе, человек с высокими достоинствами, литератор и не похожий на обыкновенных французов края, сблизился с Пушкиным, и знакомство это продолжалось впоследствии все время в Одессе. Князь Александр Матвеевич жил постоянно зиму и лето в Кишиневе и только на короткое время уезжал в поместья свои в Атаки». Дом его и брата Георгия Матвеевича (85) были самые гостеприимные, совершенно на европейской ноге и образованные (Липранди).—Старший брат Кантакузиных, полковник, убит при Бородине; он геройски отстаивал семеновские укрепления.
83 — 84. См. замечание в пункту 6.
85. Дом (деревянный с флигелем) князя Георгия Матвеевича Кантакузина. „Он был вначале адъютантом главнокомандующего 2-ю армиею, графа Бенингсена,— пишет Липранди — и, владея в совершенстве французским языком, с превосходным почерком, занимался перепискою Записок Бенингсена. Произведенный в полковники, когда оставвл командование армиею Бенингсен, он принял Бугский уланский полк, который обошелся ему за сто тысяч рублей (ассигнациями) и, потеряв терпение или, лучше сказать, не чувствуя себя достаточво способным для мелочных, хотя и необходимые занятий, оставил службу и поселился в Бессарабских поместьях своих, в Хотинском уезде, избрав местопребывавием Маркоуцы. Мать его, жившая постоянно в Яссах, где была еще знатная часть их владений, имела в Кишиневе дом, куда князь Георгий Матвеевич и приезжал только на зиму, лето же проводил частию в Маркоуцах, частию в Хотине, где имел свой дом. Князь Георгий был женат на княжне Елене Михайловне Горчаковой, сестре бывшего потом министра иностранных дел, женщине замечательнаого характера… Дня через три после приезда Пушкина, я обедал у князя; зашла речь о приехавшем поэте. Князь просил меня ввести его в дом, а княгиня присовокуипла, что брат ее тоже лицеист и недавно приезжал к ним на несколько дней. Я обещал это сделать впоследствии, присовокупив, что сам только вчера у Мих. Фед. Орлова поменялся с ним несколькимн словами. Но с Пушкиным ь знакомство склеивалось скоро, и на другой день, встретив его у Ф. Ф. Орлова, я имел случай сообщить ему желание княгини Кантакузин. Феодор Федорович Орлов вызвался ехать с вами, и Пушкин сел на его дрожки, через полчаса возвратился во фраке, и мы отправились. Нас оставили обедать, и князь Георгий, любя покутить, задержал далеко за полночь. Здесь Пушкин познакомился с братом князя Георгия, Александром Матвеевичем, начал посещать и его; но реже нежели князя Георгия, у которого этикет не столью был соблюдаем, как у первого.— Из князей Ипсиланти, Александр, когда бывал в Кишиневе, посещал князя Георгия чаще, нежели князя Александра, чтб впоследствии объяснилось их отъездом в Яссы. Раза два они уезжали вместе в Скуляны. Князю Ипсиланти не было такого предлога, как князю Георгию, у которого была в Яссах мать. С открытием гетерии, оба дома Кантакузиных выехали из Кишинева; семейство одного в Атаки, другого в Хотин; мужья увлечены были в гетерию» (Липранди).
В частности Князь Георгий Кантакузин сопутствовал Князю Ипсиланти до Тырговиште, и оттуда с отрядом возвратился в Молдавию для принятия начальства над находящимися там гетеристами. Он то и командовал остатками армии етеристов в Скулянском деле, происходившем во второй половине июня 1821 года и названном у Вельтмана «последним боем пред вратами спасения». ,,Истощив последние силы, сжатые турками в кучу, етеристы бросили оружие, побежали к переправе, смешались с переправляющимся народом; но турки кинулись к переправе и воздержались только готовностию нашей батареи; а между тем, испуганные беглецы кинулись вплавь через реку, переплывали и тонули, подстреливаемые турками». Жизнь самого князя была в опасности, вследствие покушения на нее арнаутского капитана Хаджи-Оглу. Будучи ранен, князь Георгий перешел в карантин.—Вся эта история была причиной его опалы: он не мог выезжать из Бессарабии и пользоваться правами выборов. Водворившись в Хотине, он, от нечего делать, содержал все почты Хотинского уезда. Об этом Липранди пишет: ,,упряжь была Молдаванская, с коня (т. е. суру джи или ямщик правил, сидя верхом на одной из лошадей); большею частью введены были малые Польские плетеные брички, но оставалось несколько и каруц для туземцев. Это были лучшие почты в целой Области как лошадьми, так и выбором суруджи, всех одетых в единообразную форму. Князь в первое трехлетие приложил много из своего кармана».
86. Дом Мило (ныне принадлежащий И. В. Кристи). Семейство Мило, родственное Крупенским, отличалось преданностью Русским; обе дочери Мило были замужем за Русскими: старшая, Пульхерия Егоровна, была за Белугой—Кохановским, дом которого (87) был всегда полон Русскими, находившими там радушное хлебосольство. Младшая, Марья,—за чиновником горного ведомства, статским советником И. И. Эйхфельдом, который, никак не стесняя жены, жил, как немец, без общества у себя. С красавицей Эйхфельдшей сблизился у Кохановского Н. С. Алексеев, еще до приезда Пушкина, и был верным ее поклонннком. Пушкин хаживал к вим и был очень любезен с Эйхфельдшей. Она была притом и хорошо образована, образование же Ивана Ивановича Эйхфельда состояло в тяжелой учености горного дела; словом муж не соответствовал жене, что Пушкин и подчеркнул, дав этой паре кличку— ,,3емира и Азор», сделавшуюся скоро общей. Вероятно желая скрыть истинный характер своих отношений к Н. С. Алексееву (каковые отношения Липранди называет «одной из тайн, близко ему известных, по одному случаю», Эйхфельдша стала впоследствии окружать себя разными родственниками Молдаванами и Греками и умышленно казалась равнодушною к русской молодежи. Пушкин стал трунить над этим, что сказалось в особом шуточном стихотворении:
Ни блеск ума, ни стройность платья,
Не могут вас обворожить:
Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы ве любите меня;
Одна моя надежда Зоя—
Женюсь и буду вам родня.
Зоя была племянница молодой Эйхфельд, девушка не очень привлекательной наружности (Бартенев). 87. См. 86.
88. Дом бессарабского помещика, но до етерии жившаго постоянно в Яссах, Петраки Маврогени. О нем см. выше, в отделе «Эмигрантское общество». 89. См. конец отдела «Эмигрантское общество».
90. Дом Ивана Константиновича Прункула, члена верховного совета «очень умного и хитрого, знавшего очень хорошо законы». По его имени названа Прункуловская улвца. Прункул «решительно никого и никогда не принимал у себя, кроме обычных визитов в большие годовые праздники» (Липранди). Он имел четырех сыновей: Алеко, Панаита (отставного прапорщика из корпуса путей сообщения), Скарлата (или Карла) и Костаки. Из них Скарлат (он же — Карл Иванович всего лишь несколько лет назад умерший) в 1857—8 годах «вздумал было напечатать свои воспоминания о Пушкине, давая как бы понимать о его близком знакомстве с ним; но В. П. Горчаков, в Московских Ведомостях (1858, № 19), опроверг эту наглую ложь» (Липранди). Знавшие Карла Ивановича разсказывают, что он не раз передавал, как у него (по примеру Тодора Балша) возникла ссора с Пушкиным, который вызывал и его на дуэль и как он избег ее лишь своевременным удалением в имение Слободзею. Очень может быть, что Карл Иванович как анекдотист, не прочь был выставлять на смех свое малодушие, лишь бы фигурировать рядом с именем Пушкина. Но и сам Липранди свидетельствует, что с Прункулами Пушкин был знаком; только ,,знакомство это ограничивалось встречами на вечерах, в клубе, у Варфоломея, а иногда в бильярдной Антония. Из Прункулов, как говорится, le moins mauvais — был старший Алеко, скоро умерший.У них была только одна сестра Кассука (Кассандра), за три года до прибытия Пушкина в Кишинев выданная замуж за Палади, Оргеевского земского исправника, местного дворянина. Но она также была временным предметом внимания и минутной любви Пушкина, наравне с Пульхерией Варфоломей и другими.
91. Дом Грекулова — помещика, по имени коего назван Грекуловский переулок.
92. Дом Пурчела, помещика, по имени которого назвава Пурчеловская улица.
93. Дом современного Пушкину местного литератора и поэта Стамати, с маленьким позади садом, в котором был поставлен хозяином, в память П. П. Свиньина, жившего у него, памятник. Свиньин — чиновник особых поручений, отправленный из Петербурга при губернаторе Гартинге для исследования так называемого ,,0бичею памынтулуй» (обычаев земли, как правовой нормы) в Бессарабии. Результатом исследовавий Свиньина была интереснейшая записка «Описание Бессарабской области в 1816 г.» (См. Записки Одесского Общества Ист. и Древностей, т. VI, стр. 220.)
94. Кондитерская безносого Марко Манчини (сзади дома Крупенского), куда часто заходил Пушкин с Липранди н другими военными, „не столько для употребления чего либо, сколько пошутить с его (Манчини) дочерью» (Липранди).
А. и Б. Большая и Малая Малина. При Пушкине Малина отстояла от города версты на две и вся утопала в зелени виноградных и фруктовых садов. ,,Это место— пишет Вельтман — как будто посвящено обычаем «полю» (дуэли). Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, осматривают, не заколдовано ли оружие, изготовляют их, а между тем подсудимые (Божий суд) сбрасывают с себя платье к становятся на место. Здесь два раза «полевал» и Пушкин, но к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим — заключает Вельтман, — но был сввдетелем издали одного „поля» и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время, как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрельца и на промах.» Не менее того Малина была местом маевок и отдохновения на лоне природы. А. Я. Стороженко пишет: „На другой день моего приезда в Кишинев было 1-е Мая: Комендант с вечера пригласил меня на малину. Кончивши к полудню дела мои, велел везти себя в Коменданту, дабы узнать от него о месте, куда мы поедем. Не заставши его, признаться, мне было досадно возвращаться домой, не поевши такой редкости, как малина 1-го Мая. Едва мог сыскать человека во всем доме. Спрашиваю его о Коменданте и получаю в ответ: «Поехал на малину». Вдруг слышу крик извощика: ,,3наю теперь: садитесь, это недалеко от города’ и тут-то я догадался уже, что малиной, вероятно, называется какое нибудь урочище. «Пошел на малину!»
,.3а четыре версты от города, меня привезли в воротам, ведущим в окоп, заросший кустарником. Начался дождик. Ну, думал, если нам прийдется праздновать 1 Мая на открытом воздухе, под дождем, то если бы и подлинно угощали меня самою крупною малиною со сливками, и тогда выгоднее бы было остатьси дома. Иду по узенькой заросшей травою тропинке: начались по обеим сторонам виноградные плантации, и наконец я набрел на простую хижину. Хозяин праздника, Комендант, и жена его выбегают на встречу и вводят меня в малевькие сени. Тут я увидел множество Бояр и кукон, воевных офицеров и цивильных в европейских платьях. Хор Цыган старинным маршем возвестил приход мой. Хозяйка, с которою я познакомился накануне, рекомендовала меня матери и всем родным своим, природным жителям Кишиневским. Я полагал, что в 16 лет все уже выучились по-русски (А. Я. писал это в 1829-м году); но приметивши, что куконам особенно не дался еще русский язык, адресовался к ним по-молдавански. Начались удивления, где я научился языку их, как я хорошо объясняюсь на нем, и тому подобное. Подали закуску, или обед; между тем перестал дождик, показалось солнце; и предложил, познакомившись уже со всеми, праздновать 1-е Мая под тенью Волошских орехов. Все общество с восхищением приняло мое предложение; кто за барана, кто за хлеб; ножи, ложки и вилки, кушанье, разобраны по рукам; нам накрыли стол на лугу, осеняемом ветвистыми деревьями; всякий поставил доставшееся ему нести блюдо, и начался пир, как говорится, горою. Молдавское вино лилось в полных стаканах и их усердно опоражнивали. Дикие и унылые тоны Цыган, поющих и играющих на скрыпках и бандуре, погрузили меня в приятную задумчивость; взоры блуждали по горам, усеянным виноградником и фруктовыми деревьями, в лощинах и на холме раздавались голоса подобно нам празднующих: отдаленные звуки скрыпок и песней составляли какую-то странную гармонию. Кишинев был как на ладоне; издали он казался обширным красивым городом; белелись церкви и большие домы, солнце ярко освещало куполы и кресты храмов; строения, казалось, были посреди садов, и все вместе делало прекрасную панораму.
,,Пир сей напомнил мне цветущее время моей юности, когда я беззаботно веселился с Молдаванами, любил их песни и мирные удовольствия, волочился за куконами и танцевал Сербешти. Ласковым обхождением везде сыщешь приятелей. Когда, бывало, в прошлую Турецкую войну, мне случалось на зимних квартирах отдыхать в каком нибудь местечке, после трудной кампании, Я делался как бы уроженцем оного. 1808 года я знал уже Молдавский язык; принаравнивался к обычаям их и приобретал на чужой стороне почти родственные ласки во многих Боярских домах…. Цыгане заиграли и запели, неслыханную мною доселе, песню, самую унылую: Если я живу, живу лишь для милой, Без нее мне все грустно и уныло!
,,Стыжусь, слезы навернулись у меня, и я так был растроган, что все общество приметило мое смущение. На вопросы о причине, я отвечал, что воспоминание былого слишком меня трогает; все заключили, что я был влюблен в Молдавии, всем куконам это нравилось; наконец звук стаканов отвратил от меня общее внимание…
„Напившись шербету с ключевою водою, турецкого кофию, и накурившись трубок, мы возвратились в город часу в 7-м. Дикие тоны Цыганской музыки отдавались в ушах моих, а слова упомянутой мною песни вертелись в памяти».
Долиной „Малина», отстоящей от города на четыре версты, пользовался как местом отдохновения и пресловутый талгарь (разбойник) Урсул (медведь), пойманный в понедельник на Св. Неделе в последнем (1823-м) году пребывания Пушкина в Кишиневе. В этот злополучный для него день, Урсул, остановившись в долине и купив из стада барашка, начал его жарить, — рассказывает Липранди — а пастуха послал в корчму за вином. Пастух, подозревая, что это Урсул, за которого назначена была значительная награда, сказал корчмарю, который тотчас побежал в город. Оттуда было послано несколько драгун за Урсулом, который, по возвращении пастуха тотчас отравился в город, чтобы высмотреть место с теми, которые его вызвали для ограбления ночью оного. Драгуны разъехались с ним; ибо из этой долины в город ведут многие дорожки. Узнав от пастуха, по какой дороге поехал Урсул, они пустились за ним. При самом въезде в город Урсул, заметив погоню, пустился от нее. Было четыре часа по полудня, когда Урсул, Богаченко и Соболев (сотоварищи Урсула), верхами большою рысью въехали в город, в плащах, под которыми имели обычное вооружение и направились прямо к площади, где были устроены качели и уже довольно народа. Сделав против почтовой Конторы (63) из пистолета выстрел по мужику, скакавшему сзади на каруце, разбойники своротили вправо, по длинной и узкой Жидовской улвце, ведущей в нижнюю часть города, ранив ятаганом жида, пытавшегося остановить лошадь самого Урсула, и так выбрались в Булгарию (нижняя часть города) и бросились к болотистым берегам р. Быка, за ними Болгары и захватили Урсула и Соболева, у которых завязли лошади; Богаченко же ушел, и только через год был пойман и засечен кнутом. Между тем Урсул и Соболев бежали из Полиции и лишь чрез месяц были пойманы в корчме, в версте от Кишинева, лично Полициймейстером, полковником Я. Н. Радичем, которому граф Воронцов (генерал-губернатор) дал срок к их поимке, потому что Урсул бежал из Полиции с рассветом дня, несмотря ва караул и т. п. Радич употребил для сего значительные деньги, давшие, как почти и во-всех случаях, удовлетворительный итог. Богаченко же, как замечено выше, был пойман спустя год, тоже посредством подкупа. Заключенный в остроге, он взбунтовал других и, среди дня, успел почти со всеми заключенными, обезоружив караул из внутренней стражи, бежать; но так как у него и у других кандалы были не сбиты, то они остановились для сего на жидовском кладбище, в версте от острога, лежавшем почти на самой оконечности города, по дороге в Скуляны». Между тем поднялась тревога, ударили в колокола и барабаны; рота 33-го егерского полка бросилась за беглецами и, вступив в перестелку, захватила их.
Вельтман так отзывается об Урсуле. „Это был начальник шайки, составившейся из разного сброда войнолюбивых людей, служивших етерии молдавской и перебравшихся в Бессарабию от преследования Турок после Скулянского дела… Сам Урсул был образец зверства и ожесточения; когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал осыпанный червями, но не охал». Вельтман высказывает уверенность, что Урсул подал Пушкину мысль написать картину ,,Разбойников» (т. е. поэму „Братья Разбойники) Но, по заявлению самого поэта, он видел переплывавших реку разбойников в Екатеринославе. В Кишиневе кто-то усумнился, чтобы вместе скованные разбойники могли переплыть Днепр. Пушкин кликнул своего слугу Никиту и велел рассказать, как они с ним действительно видели это в Екатеринославе (Бартенев со слов В. П. Горчакова).
В длинном ряде топографико-эпизодических заметок мы исчерпали всю пли почти всю область фактов из жизни Пушкина в Кишиневе. Гораздо обширнее область анекдотов о кишиневской жизни поэта; но мы воздержались от всякой попыгки связать с несомненно достоверными фактами, засвидетельствованными несколькими интеллигентными современниками, мишуру анекдотов. Подобную попытку возымел в начале пятидесятых годов профессор Одесского лицея, К. Зеленецкий, ездивший нарочно в Бессарабию для собирания сведе-ний о Пушвине и писавшиЙ со слов Д. А. Вороновского, П. С. Пущина, Марини, В. И. Гордынского, П. С. Леонарда, В. 3. Писаренка и студента Ратко. Плодом трудов Зеленецкого был этюд, напечатанный им в «Москвитянине» 1854 г. № 9, под заглавием: „Сведения о пребывании Пушкина в Кишиневе и в Одессе, в примечания к описанию Одессы, в Евгении Онегине». Мы не беремем судить о достоинстве предпринятого и выполненного Зеленецким труда, а ограничимся выпиской замести Линранди по этому поводу. „Пущин — пишет он — мог сообщить сведения о Кишиневской и Одесской жизни Пушкина; Павел Яковлевич Маркин только об Одесской; но не знаю, что мог сообщить о Кишиневе (времен Пушкина) Писаренко. Мелкий чиновник областного правления, не бывавший в обществе и которого едва ли Пушкин и знал, Писаренко сделался фаворитом Фигеля (приехавшего в Кишинев почти в момент отъезда Пушкина в Одессу и несмотря на то огульно окрестившего его „вольнодумцем» в своих „Записках»); о Гординском и Ратко я никогда не слыхал; Леонард же — Молдаванин, поссесор Кетроса. Впрочем видно, что профессор Зеленецкий ездил в Бессарабию собирать сведениия о Пушкине (т. е. собственно подбирать всякие ходячие рассказы)… и к сожалению указывает на таких лиц, которые никак не могли передать ему ничего другого, кроме как того, что могли слышать (и от кого еще?) или выдумать, исключая Пущина и Марини. Если 55 леть тому назад попытка Зеленецеого не заслужила одобрения, тем более она не имела бы смысла теперь.
Общий вывод, какой сам собою ясен после обозрения более или менее выдающихся эпизодов из жизни Пушкина в Кишиневе, — тот, что эта жизнь развернула пред юношей—поэтом во всей пестроте и разнообразии мир людских отношений и связей: в Кишиневе по преимуществу познакомился он с жизнью, и приобрел познание человеческого сердца, которое бывает так нужно писателю. Дополняя эту мысль, нужно однако сказать, что тот интерес, какой представила для Пушкина кишиневская жизнь, был обусловлен не собственными культурными ресурсами Кишинева, а историческим моментом — етерией и, не менее того, характером русского кружка того времени, во главе с М. Ф. Сфловым. „Само собою разумеется, — пишет Бартенев — что большинство людей, с которыми он (Пушкин) встречался в Кишиневе, не могли дорожить высокими достоинствами поэта, и всего чаще лишены были способности открывать и замечать их. К тому же им досадно бывало видеть, как этот, едва вышедший из детства, баловень природы, без видимого занятия, без всяких наглядных заслуг, пользуется уважением людей высоко поставлевных, водится с первыми лицами города, не хочет знать привычных условий и внешних форм подчиненности, ни перед чем не останавливается, и все ему проходит. Степенное кишиневское чиновничество не в силах было простить ему напр. небрежного наряда. Досадно им был смотреть, как он разгуливает с генералами, в своем архалуке, в бархатных шароварах, неприбранный и нечесанный, и размахивает железною дубинкою. Вдобавок не попадайся ему, оборвет как раз. Молодой Пушкин не сдерживал в себе порывов негодования и насмешливости, а в Кишиневском обществе было, как и вѳзде, не мало таких сторон, над которыми изощрялся ум его. Находчивостью, резкостью выражений и ответов, он выводил из терпенья своих протвввиков. Язык мой — враг мой, пословица, ему хорошо знакомая. Сюда относится большая часть анекдотов, которые ходят про него по России. Так напр., на одном обеде в Кишиневе, какой-то солидный господин, охотник до крепких напитков, вздумал уверять, что водка лучшее лекарство на свете и что ею можно вылечиться даже от горячки. «Позвольте усу мниться», заметмл Пушкин. Господин обиделся, и назвал его молокососом.—«Ну, уж если я молокосос, сказал Пушкин, то вы конечно виносос». — И вот уже враг, готовый радоваться всякой ошибке и распускать всякую клевету! Какая-то дама, гордая своими прелестями и многочисленностью поклонников, принудила Пушкина написать ей стихи в альбом. Стихи были написаны, и в них до небес восхвалялась красота ея, но ввизу, сверх чаяния, к полнейшей досаде и разочарованию, оказалась пометка: 1 Апреля. Подобных случаев, без сомнения, было немало. Кто-то выразился про Пушкина, играя словом бессарабский с намеком на его физиономию: бес арабский. Иногда поэту приходилось тяжело в обществе, враждебно против него настроенном. В таких случаях он не раз предпринимал поездки: в Чигиринский повет Киевской губернии — в село Каменку, к Давыдовым, в Одессу, в Тульчин, где находилась главная квартира 6 корпуса, а чаще всего в г. Калараши, гдв поэт пользовался гостеприииством местного помещика Отсюда-то он отзывался о проклятом городе Кишиневе:
„Там все поэта презирают,
И «дракул руссул» называют,
О нем с презреньем говорят,
Его позорят и бранят,
И весь свой злобный, гнусный яд
Пред ним с восторгом изливают».
В заключение считаем нужным привести свидетельство А. Я. Стороженко о том, какое впечатление производил на свежего человека общий вид старого Кишинева, лет пять спустя по отъезде Пушкина. ,,На последней станции к Кишиневу (от Бендер) мевя везли по берегу небольшой реки Бык, протекающей и через город, окрестности коего усеяны виноградными садами. На зеленеющих пригорках и равнинах взоры мои отдыхали, и воображевие представляло Кишинев дремлющим среди тенистых садов во вкусе Азиятском. Въезжаю в город; еду по узким, нечистым улицам, и думаю впереди встретить мрачные, но покойные, Азиятские строения. Тщетная надежда! Между ветхими избушками везде возвышаются порядочные домы; заборы около многих Боярских дворов уничтожены, остались одни только ворота, при иных даже каменные, свидетельствующие, что хозяин некогда хотел жить по-людски, при других же два столба с перекладиною, точно виселицы. Все вместе представляет какое-то опустошение, а ворота без заборов служат печальными памятниками, или вывесками лени и небрежения». Сказав далее о скуке, имеющей в Кишиневе «особенное свое прибежище», Стороженко продолжает: „Здесь необходимо быть Губернатором человеку знатному, богатому, иначе Кишинев со временем сделается деревнею. Лавочки, в которых продают красные товары, вареную и жареную баранину, плацинды и бакалейные товары, построены в два ряда в узкой смрадной улице, совершенно уже во вкусе Азиятском. Питейные домы с хлебным и Молдавским виноградным вином рассеяны по всему городу; на откидных на улицу стойках наставлено множество разной величины и формы бутылочек с разноцветным вином и водкою, манящими к себе обожателей Бахуса. У некоторых питейных домиков на террасах с навесом барды Молдавские, Цыгане, наигрывают и напевают сочиненные ими на разные случаи заунывные песни, и красноносые посетители пьют, призадумавшись. Видны экипажи по улицам: кучера одеты по большой части в купленных у гусар разных полков поношенных доломанах. Теперь есть здесь и дрожки извощичьи. Лошади в оных кожа да кости, но в день надобно заплатить за дрожки от 10 до 15 рублей, или же по 1 р. 40 к. в час; каждый извощик, возивший меня, имел карманные часы. Где дело идет об интересе, там и простой Молдаван, или Грек, не только не уступит, но и превзойдет в расчетах всякую нацию».
Печальному ввешнему виду города соответствовало состояние администрации. ,,Кишиневское, или все Бессарабское, Гражданское Начальство живет лишь для себя, — писал Стороженко. Полицейместер не зависеть от Губернатора; сей последний, кроме злоупотреблений, ни к чему полезному без разрешения приступить не может. Стоит только въехать в город, чтобы судить о неисправности полиции, и заглянуть в какое вам угодно Губернское Присутственное Место, чтобы видеть общий беспорядок в управлении Областью. Нет ни суда, ни правды. Губернаторов до десятка переменилось не более, как в течение двух лет, двое из них заглянули только в Присутствениые Места и, убоясь бездны, открывшейся перед ними, можно сказать, бежали. Нерешенным делам нет счету, равномерно как израсходованным казенным суммам».
Все ждало появления человека, который порывом безграничной энергии мог бы вызвать в жизни от века дремавшие культурные силы страны. Бессарабии нужен был свой Потемкин — и он явился в лице военного губернатора Павла Ивановича Федорова.
Секретарь Бессарабской Ученой Архивной Комиссии И. Халиппа.
